Открытость бездне. Встречи с Достоевским
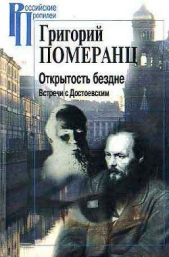
Открытость бездне. Встречи с Достоевским читать книгу онлайн
Творчество Достоевского постигается в свете его исповедания веры: «Если бы как-нибудь оказалось... что Христос вне истины и истина вне Христа, то я предпочел бы остаться с Христом вне истины...» (вне любой философской и религиозной идеи, вне любого мировоззрения). Автор исследует, как этот внутренний свет пробивается сквозь «точки безумия» героя Достоевского, в колебаниях между «идеалом Мадонны» и «идеалом содомским», – и пытается понять внутренний строй единого ненаписанного романа («Жития великого грешника»), отражением которого были пять написанных великих романов, начиная с «Преступления и наказания». Полемические гиперболы Достоевского связываются со становлением его стиля. Прослеживается, как вспышки ксенофобии снимаются в порывах к всемирной отзывчивости, к планете без ненависти («Сон смешного человека»).
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Августин различал свободу выбора Бога и свободу в Боге. Первое не требует разъяснений. Но как понять второе? Был ли свободен Адам, выбирая Еву? На первый взгляд – нет. Но Адам жил в раю, то есть в Боге, и со всей полнотой бытия желал того, чего желал в нем Бог. Рабом он себя при этом не чувствовал. Хотя в известном смысле был рабом Божьим. Если Бог внутри (а не только вовне), верность и послушание Ему есть верность и послушание самому себе, глубочайшему себе, внутреннейшему в себе самом, то есть величайшая внутренняя свобода. Выходит оксюморон: рабство есть свобода. Но разве не так в любви? С милой рай в шалаше – хотя какой в шалаше выбор? И сегодня, и завтра, и послезавтра – только Джульетта. И все-таки Ромео в шалаше свободнее владыки гарема...
Выбор иногда необходим. И эта необходимость – прямая противоположность свободы. Гамлет целые пять актов не может вырваться из ситуации выбора, князь Мышкин гибнет оттого, что его заставляют выбирать между Настасьей Филипповной и Аглаей. Ставрогин в конце романа имеет выбор – между добровольным пожизненным заключением в швейцарском ущелье и добровольной смертной казнью через повешенье. Но у него нет ни капли внутренней свободы. А без внутренней свободы – все равно что без воздуха.
В полноте желаний, в полноте бытия часто нет никакого выбора. Ромео раз и навсегда выбрал Джульетту и не хочет вырваться из сладостного плена. Любящий ликует в рабстве. И это ликование так велико, что прекращение его хуже смерти. Влюбленные иногда даже кончают с собой, чтобы никогда в их век не кончилось ликование чувства. Точка пули – и праздник застывает в памяти, и нет перехода к будням. Своего рода изуверство любви – но такое же пламенное, как религиозное изуверство, – и в каждом из них есть капля истины, истинной метафоры, ставшей ложью, когда она реализована, когда минутное подобие вечного духовного огня стало идолом и ему – а не Богу – приносится жертва.
Можно быть влюбленным в полноту бытия, как в женщину, и кончить с собой, как Кириллов, – попыткой доказать вечности силу своей любви (почти как тот корнет, застрелившийся на пороге Анны Ахматовой). И можно пережить любовь к женщине так, как пустынники переживали Бога, как «неверная жена» Камю – ночную пустыню, как Даниил Андреев – ночь на берегу Неруссы 29 июля 1931 года. Все преходящее – только подобие, и все они истинны, если не заслоняют вечности.
«Я слышал, – писал Андреев, – как Нерусса струится не позади, в нескольких шагах за мною, но как бы сквозь мою собственную душу... Торжественно и бесшумно в поток, струившийся сквозь меня, влилось все, что было на Земле, и все, что могло быть на небе. В блаженстве, едва переносимом для человеческого сердца, я чувствовал так, будто стройные сферы, медлительно вращаясь, плыли во всемирном хороводе, но сквозь меня; и все, что я мог помыслить или вообразить, схватывалось ликующим единством. Эти древние леса и прозрачные реки, люди, спящие у костров, и другие люди – народы близких и дальних стран, утренние города и шумные улицы, храмы со священными изображениями, моря, неустанно покачивающиеся, и степи с колышущейся травой, – действительно все было во мне той ночью и я был во всем. Я лежал с закрытыми глазами. И прекрасные, совсем не такие, какие мы видим всегда, белые звезды, большие и цветущие, тоже плыли, со всей мировой рекой, как белые водяные лилии. Хотя солнце не виднелось, было так, словно и оно тоже текло где-то вблизи от моего кругозора. Но не его сиянием, а светом иным, никогда мною не виденным, пронизано было все это, – все, плывшее сквозь меня и в то же время баюкавшее меня, как дитя в колыбели, со всеутоляющей любовью.
Пытаясь выразить словами переживание, подобное этому, видишь отчетливее, чем когда бы то ни было, нищету языка...» («Роза мира», кн. 2, гл. 2).
Никакой возможности выбора в этом состоянии нет. Выбор сделан – и не нами. Выбор совершен тем огромным, не имеющим имени, которое веет повсюду – и вдруг полностью уместилось в нашей груди.
Внутренняя суть свободы – это чувство связи с источником бытия. До полного тождества со своим источником. В этом своем максимуме свобода умирает и тут же воскресает – в добровольном отказе от своевольного выбора; если и мелькает обособленная воля, то тут же уступает место высшей (да будет воля Твоя, а не моя). Возвращение к свободе обособленной воли есть знак потери блаженства, падение в царство необходимости, изгнания из рая. Возможность выбора – это свобода в царстве необходимости. Выбор может вывести из ада. Восстановление свободы выбора – начало спасения Раскольникова. Но в раю полнобытия все, что можно выбрать, – уже не рай, потеря рая, дорога в ад.
Ставрогину даны мгновения на грани полнобытия, – но погрузиться в полнобытие принц Гарри не хочет. Он слишком хорошо усвоил, что свобода выбора – знак благородства, отличие вольной души от рабской, сильной – от слабой, не способной вынести бремя выбора, передающей это бремя вождю, духовнику, Великому инквизитору. Он слишком твердо встал на путь выбора и не способен сойти с него, когда пришел к цели, к свободе по ту сторону выбора. Он отказывается от Джульетты и флиртует с кормилицей. Возможность выбора, хотя бы самого низкого, презренного, грязного, стоит для него выше свободы в Боге. Ставрогинские безобразия, нарушения всякой иерархии (этической, эстетической, социальной) – только метафоры бунта против духовной иерархии. Свободный от общества, культуры, традиции, он остается рабом, рабом эвклидовского ума, для которого нет высшего принципа, чем он сам, чем его свобода сравнивать, оценивать и выбирать. И хотя он способен волей остановить любую прихоть, любой каприз, – право на каприз остается его королевской привилегией, более драгоценной, чем вечное блаженство. И он утверждал это право, отвергая Бога и свободно (как ему кажется) выбирая грязь и грех. Не замечая своей захваченности грязью и грехом, своего рабства грязи и греху, своим привычкам избалованного барчука.
Подлинно свободный человек глядит на свои прихоти как бы Божьим взглядом. Точка, с которой созерцаются прихоти, не может быть найдена в самих прихотях (чувственных или идейных). Точка господства – только в глубине, в лично-сверхличном. На языке нашей культуры – в Боге. Когда теряется иерархия высокого и низкого, глубокого и мелкого, – рушится свобода. Это можно показать в истории. Политическую свободу создали средневековые европейцы, сознававшие себя рабами Божьими. Политическую свободу разрушили фанатики равенства. Там, где до конца разрушена иерархия, прежде всего духовная, рушится и свобода. И наоборот: если совершенно подавляется, изничтожается свобода личности, свобода решительно во всех сферах, не только в политике, – свобода духовная, эстетическая, культурная, – система становится хрупкой, ломкой и быстро гибнет, как погибло царство Цинь Ши-хуанди.
Эвклидовский разум не может постичь, что все ценности (в том числе ценность свободы) укоренены в некой непостижимой сверхценности, не выразимой словом, недоступной уму, но ощутимой глубиной духа, укоренены в Царствии Божьем, которое внутри нас. Расчленение глубины, чрезмерный анализ, рефлексия создают тени. Свет и тени иерархически неравноценны, не стоят на одном уровне. Попытка отбросить иерархию, подняться над светом и тьмой – делает человека рабом тьмы, раскалывает душу на легион бесов.
Митю Карамазова ужасает, что в нем есть воля к тьме, к красоте Содома; при всей своей философской неразвитости он понимает, что выбор Содома есть порабощенный выбор; а потому в какой-то момент – от какого-то толчка – он может спастись, найти силу сделать истинно свободный выбор. Залог спасения Мити в том, что Содом никогда не стоит для него на одном уровне с Мадонной. И здесь же залог гибели Ставрогина. Ему чудится точка выбора над Мадонной и Содомом, то есть над Богом. Ему чудится Бог, над которым стоит человеческая свобода. А это обман (или самообман). Это прельщение, иллюзия.
Можно слиться с Целым, но нельзя стать выше Целого. Так же как нельзя стать нулее нуля. Причастность целому, слитность с целым, с причиной самого себя, – это и есть свобода и любовь и господство глубинного, внутренне бесконечного над внешним и конечным. Глубочайшая свобода – вся в Боге и Божья. Она дает бесстрашие Мышкину и Хромоножке («Не боюсь твоего ножа!»). Она не сама по себе. Это полнота жизни, неотделимая от любви. Неотделимая от иерархии внутреннего и внешнего, света и тьмы – любви к свету, а не к тьме. Неотделимая от воли Божьей (целостной), а не демонической (отколовшейся и расколотой). Если свободное сознание выбирает то, что расколото, оно само себя раскалывает, иссушает источник внутреннего света, любви – и свой собственный источник. Оно попадает в царство внешнего, где все определено извне, в царство мнимой свободы нажать на спусковой крючок пистолета, направленного в сердце. Ибо все, кроме высочайшего и глубочайшего, детерминировано. И свобода выбора при параличе глубинного уровня – только соблазн минутного ощущения свободы.


























