Открытость бездне. Встречи с Достоевским
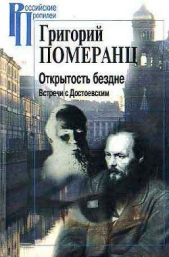
Открытость бездне. Встречи с Достоевским читать книгу онлайн
Творчество Достоевского постигается в свете его исповедания веры: «Если бы как-нибудь оказалось... что Христос вне истины и истина вне Христа, то я предпочел бы остаться с Христом вне истины...» (вне любой философской и религиозной идеи, вне любого мировоззрения). Автор исследует, как этот внутренний свет пробивается сквозь «точки безумия» героя Достоевского, в колебаниях между «идеалом Мадонны» и «идеалом содомским», – и пытается понять внутренний строй единого ненаписанного романа («Жития великого грешника»), отражением которого были пять написанных великих романов, начиная с «Преступления и наказания». Полемические гиперболы Достоевского связываются со становлением его стиля. Прослеживается, как вспышки ксенофобии снимаются в порывах к всемирной отзывчивости, к планете без ненависти («Сон смешного человека»).
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Но где у Ставрогина частные причины для такого захлеба зла? Достоевский, работая над текстом, выкинул все попытки частного объяснения. В черновиках главы
«У Тихона» архиерей бранит Ставрогина за барское воспитание, за беспочвенность. В окончательном варианте главы этих упреков нет. Подчеркивается свобода воли героя.
«...Никогда <...> чувство не покоряло меня всего совершенно, – пишет Ставрогин, – а всегда оставалось сознание, самое полное (да на сознании-то все и основывалось!).
И хотя овладевало мною до безрассудства, но никогда до забвения себя. Доходя во мне до совершенного огня, я в то же время мог совсем одолеть его, даже остановить в верхней точке, только сам никогда не хотел останавливать. <...> Я всегда господин себе, когда захочу. Итак, пусть известно, что я ни средой, ни болезням ни безответственности в преступлениях моих искать не хочу».
Демон превратности
Среда у Достоевского – только условие, обстановка – никогда не причина преступления. И усталость, и нравственное отупение от разврата – только условия.
Так же, как бедность Раскольникова. Решает свободная воля.
Мне кажется, что волю Ставрогина захватывает некая тень. Смысл этой тени я постараюсь постепенно раскрыть, но первый подход к ней – понятие тени у К. Г. Юнга. Романтики называли это демоном превратности. Вдруг какой-то голос начинает подсказывать разрушительные и саморазрушительные поступки. Это не инстинкт, скорее порча инстинкта, расстройство психического аппарата. А может быть, это данный нам знак сердечной пустоты. Когда сердце человека до краев полно, тени нет. Когда разум человека не принимает нашептывания тени, она почти бессильна. Но если сердце пусто, а разум сбит с толку, тень разрастается, и вся сила души становится силой тени. Откуда бы они ни взялись, эти тени – психическая реальность. Юнг нашел многочисленные следы их в мифологии разных народов. Это один из его архетипов, то есть нечто, лежащее в коллективном бессознательном, какой-то внеличный фактор душевной жизни.
Ставрогина отличает не то, что он прислушивается к тени (мы все иногда к ней прислушиваемся), а только исключительная, потрясающая сила демонических внушений. Это отчасти предрасположенность, но еще больше следствие неоднократного выбора, черта благоприобретенная. Ставрогин и подобен Достоевскому, и противоположен ему. Настолько подобен, что писателя и его создание путают и приписывают преступление, в котором кается Ставрогин, самому автору. С тем же успехом, впрочем, можно приписать Достоевскому кражу получки из вицмундира бедного чиновника, и убийство двух человек на дуэли, и все остальное. А также убийство Алены Ивановны топором (некоторые простодушные читатели и это считали автобиографией).
Для Достоевского, с его пониманием ответственности человека за свои помыслы, исповедь Ставрогина есть его собственное покаяние, обличение собственной тени. Но это покаяние в помыслах, а не в поступках. Поступок, может быть, стоит за одной глухой фразой: «с одной женщиной я поступил хуже, и она оттого умерла». Здесь, может быть, воспоминание о собственном грехе перед Сусловой, об искажении ее души. Но было бы непростительной ошибкой смешать две личности. Достоевский сознанием и волей противится бесовскому искушению. В том числе – работая над текстом. Каждый его роман есть борьба с бесами. Не всегда до полной победы, но борьба всерьез, с напряжением всех сил.
Достоевский противится демону превратности, а Ставрогин присоединяется к нему, принимает искушение всем своим сознанием и всей волей. Страсти иногда запутывают Достоевского, но в решающую минуту он угадывает демона, притворившегося его собственным «я», и отталкивает его. Он не ставит внутреннее на одну доску с внешним, глубокое на одну доску с мелким.
А у Ставрогина иерархии высокого и низкого, внутреннего и внешнего нет принципиально (это вытекает из его понимания свободы). Внутренний голос и в нем говорит, и, может быть, он женился на Хромоножке в одну из таких минут; но тут же говорит тень, нашептывая надругаться над Матрешей, и он принимает голос извне с той же своей покоряющей решительностью.
Трагедия Ставрогина – это трагедия свободной воли, оторвавшейся от своего источника. Об этом хорошо написал Михаил Блюменкранц в дипломной работе «Концепция фантастического реализма Достоевского»: «Образы Ставрогина, Версилова, Кириллова окружает какая-то глубокая тайна. Они искусились свободой и потому прокляты, они заглянули в бездну, и бездна отразилась в них; они притягивают и одновременно вызывают отвращение. Какое-то темное, запретное знание воплотилось в них. Это самоубийство свободы, достигшей своего абсолюта. Распад духа является платой за раскрепощение души от моральных норм», и я сказал бы (дополняя автора): от потери чувства духовной иерархии, стоящей за моральными нормами. Несколько ранее, в той же рукописи, Блюменкранц пишет: «В результате краха идеи – определенной системы отсчета действительности (тут под идеей мыслится религиозное миропонимание. – Г. П.) – утерян единый взгляд на мир; любая позиция относительна, открывается лишь иной срез бытия, нет синтезирующей основы. К такого рода героям можно отнести Раскольникова, Ивана Карамазова, Версилова и прежде всего Ставрогина. Человек сложной внутренней структуры, стремящийся к цельности в себе и в своих отношениях с миром, неожиданно открывает, что цельности нет не только в нем, но и в самом бытии, что можно существовать в нескольких жизненных сферах одновременно, что шкала ценностей – вопрос субъективный, все зависит от точки отсчета».
Мне здесь не совсем нравится слово «открывает». Можно подумать, что Ставрогин действительно открыл что-то подлинное. Но философия героя Достоевского схвачена верно.
Какой-то подступ к загадке Ставрогина можно увидеть уже в двусмысленной улыбке Джоконды или того странного образа Леонардо, который иногда называют Иоанном Крестителем, а иногда Вакхом. Тогда, в XV веке, тоже пошатнулось религиозное мировоззрение, и в центр мира был поставлен человек со всем, что в человеке есть,– божественным и демоническим, внутренним и внешним. И вот бесконечное развитие богатства человеческой природы обернулось, с одной стороны, созданием прекрасных образов Леонардо, Микеланджело, Рафаэля, Боттичелли; а с другой стороны – отравлениями, тайными убийствами, сожительством с собственной сестрой и другими деяниями в духе Чезаре Борджиа. Снятие всех внешних ограничений показало равные возможности в добре и зле; и в этом зле Возрождение захлебнулось. Творчество Кальдерона – такой же страстный полемический протест против злоупотребления свободой, как в XIX веке – творчество Достоевского.
Однако сходство двух культур – не тождество. В Европе Возрождения Леонардо сам по себе и Чезаре Борджиа сам по себе. Только в одном трагическом герое Шекспира – Гамлете – противоположные мотивы смешались, и душа становится нерешительной от страха перед самой собой. В мире Достоевского это исключение стало нормой. В душе его героев вместилось все сразу, и вот Ставрогин пробует то одно, то другое, – то просветленное юродство, то сладострастие зла, – и все сейчас же бросает. Он ведь не холоден и не горяч. У него нет любви и нет привязанностей. Его «я» плавает над всеми идеями, упиваясь безграничными возможностями своей свободы. Но свобода прихотей не есть свобода души, свободен на самом деле не Ставрогин, а поселившиеся и раскормленные им бесы.
Спиноза писал, что свободно только существо бесконечное, ничем не определенное, кроме самого себя. Тварь же подчиняется внешней необходимости и потому не более свободна, чем камень, брошенный из пращи. Я думаю, что разницу между человеком и камнем Спиноза понимал не хуже, чем его многочисленные критики, но он хотел подчеркнуть, что сравнительно со свободой Бога всякая свобода твари, в конечном счете, нуль.
Человек может быть действительно свободен, если он приобщился вечности, если он перестает быть атомом среди атомов, если он открывает в себе глубину, в которой все едино, все целостно. Есть много уровней нашего движения к целостности и к истинной свободе, и нельзя подняться на более высокий без известной приглушенности низшего. Но в душе Ставрогина нет никакой иерархии, никакого пафоса неравенства тьмы и света. Ставрогин знает только равноправные мгновения. Иногда – высшие мгновения, но мгновения сменяют друг друга неудержимо, и мгновений мелких, пошлых, поверхностных больше, чем великих. По законам статистики пошлость господствует над подлинностью, высокие помыслы редки, низкие – часты. Равенство мгновений дает перевес низости, пошлости, злу, безобразию. Название романа Достоевского – образ души Ставрогина: не человек, а легион бесов. Личность, расколотая на множество мгновенных «я», иногда – потрясающе высоких, а в массе – как всякая масса, потерявшая структуру.


























