Открытость бездне. Встречи с Достоевским
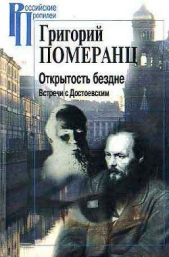
Открытость бездне. Встречи с Достоевским читать книгу онлайн
Творчество Достоевского постигается в свете его исповедания веры: «Если бы как-нибудь оказалось... что Христос вне истины и истина вне Христа, то я предпочел бы остаться с Христом вне истины...» (вне любой философской и религиозной идеи, вне любого мировоззрения). Автор исследует, как этот внутренний свет пробивается сквозь «точки безумия» героя Достоевского, в колебаниях между «идеалом Мадонны» и «идеалом содомским», – и пытается понять внутренний строй единого ненаписанного романа («Жития великого грешника»), отражением которого были пять написанных великих романов, начиная с «Преступления и наказания». Полемические гиперболы Достоевского связываются со становлением его стиля. Прослеживается, как вспышки ксенофобии снимаются в порывах к всемирной отзывчивости, к планете без ненависти («Сон смешного человека»).
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Мне кажется, что Тихон, прочитав Исповедь, растерян: кое-что он говорит верно и метко, но не так, как надо, – не как власть имеющий. Говорит, как сельский священник с большим барином, – робко, неуверенно. Разве так надо было сказать Ставрогину, что его Исповедь – баловство, что надо без фокусов идти на покаяние в монастырь, под начало старца... Ставрогин, может быть, и шел, чтобы услышать голос власть имеющего; а неуверенные советы отшвырнул, как всю жизнь отшвыривал неуверенность и робость...
Растерян и Алеша, отвечая Лизе Хохлаковой. Ее чудовищная идея – соединить распятие с ананасным компотом – совершенно ставрогинская. Сравнительно с этим Раскольников, убивая старушку из принципа, без всякого расчета на сексуальное или другое наслаждение, – просто Шиллер (как о нем и отозвался Свидригайлов, понимавший вкус греха). И вопрос Лизы – мог ли на самом деле жид это совершить? – не только вопрос о факте. Сумасшедшие с манией детоубийства встречаются во все времена и во всех странах, возможен и сумасшедший с манией распятия. Но Лиза ведь не об этом спрашивает. Она ведь сама хочет распять и есть при этом компот. Она спрашивает о каждом человеке – и о самой себе... И вот Алеша отвечает: «не знаю». Так ли надо было ответить?
Мысленно ставлю на место Алеши и на место Тихона князя Мышкина: что бы он сделал? Лизу, может быть, заклял бы. Он бы ей сказал, как Настасье Филипповне:
«Вы ведь не такая!» – или как Рогожину: «Не верю, Парфен, не верю!» – и свалился в падучей... Лизу еще можно потрясти, но что сделать Мышкину, прочитав Исповедь Ставрогина? Один из моих друзей ответил: он потерял бы разум. Наверное, так оно бы и было. Вместить в себя Ставрогина и изнутри его преобразить Мышкин не смог бы. Это ему и с Рогожиным в конечном счете не удалось. Хотя рогожинское зло – еще сравнительно доброе зло, зло отдельного страстного порыва, не всей души.
Возможно, что достаточного ответа на Исповедь Ставрогина в мире Достоевского вовсе нет. Есть только вера, что Христос мог бы ответить, но самого ответа Достоевский не знал. Демоны в его романах большей частью больные, умирающие демоны, истребляющие сами себя. Зло в них естественно гаснет. А в Исповеди Ставрогин вспоминает себя таким, каким он был в расцвете своего бытия по ту сторону добра и зла, – и перед этой демонической волей добро в романе теряется. Тут можно только ответить всем собой, предложить себя в женихи и Настасье Филипповне, и Аглае, все без разбору принять в сердце, пока оно не разорвется. Но такой юродский ответ уже был дан. Такой роман уже был Достоевским написан – раньше «Бесов».
Как нравственное существо, автор Исповеди стоит перед джинном, выпущенным из бутылки. Но может быть, есть художественный и духовный смысл в том, что ответ Тихона Ставрогину – это полуответ. Полный и достаточный ответ – если бы это было возможно – отнял бы у романа Достоевского его открытость бездне. А в этой открытости – великая сила. В творчестве Достоевского – и свет христианской культуры (Мышкин, Хромоножка, Соня Мармеладова), и ее черная тень. Что захватит читателя? Что захватило Ф. Ницше? Что захватило Г. Бёлля? Явно не одно и то же. Здесь начинается ответственность самого читателя. Искусство Достоевского не ведет его на помочах. Оно дает нам свободу падать.
Это свойство всех великих идей, всех культурных систем, всего сотворенного мира. Апостол Павел показал, что закон отбрасывает тень преступления, желание преступить закон. Христианство ослабило эту тень, поставив выше закона благодать Иисуса Христа. Но сейчас же возникли новые тени. Формула Нового Завета («сказано в законе, а Я говорю вам...») несет в себе соблазн сверхчеловека, стоящего над любыми законами, по ту сторону добра и зла. И Распятие отбросило тень: желание распять.
Понятое как обряд, несущий спасение, Распятие прямо требует повторить его, приблизить действие благодати. У аргентинского писателя Хорхе Луиса Борхеса есть превосходный рассказ об этом – «Евангелие от Марка». Индейцы, выслушав Евангелие, спрашивают чтеца: всех людей спас Христос? Да, – ответил чтец. В том числе тех, кто Его распял? Чтец признается себе, что плохо знает богословие, но все-таки отвечает: да, и их тоже. На следующий день крестьяне сооружают крест и истово распинают проповедника.
Достоевский поразительно чувствовал это христианское подполье, эти бесконечные возможности перехода от Христа к Антихристу, от веры к мистическому изуверству. И не в каких-нибудь неграмотных мужиках, о которых писал Розанов в «Темном лике» или Борхес, но в утонченном уме, где идеал богочеловека, покоряясь диалектике, рождает свое отрицание и человекобог утверждает себя в богоубийстве.
Христианство стыдится своей тени и приписывает ее злодеям иноверцам. Но бросается в глаза, что для богоубийства нужен уязвимый Бог. Это может быть Христос, это может быть Орфей, это не может быть Ягве или Аллах: до них нельзя дотянуться даже мыслью, они неуязвимы. Идея богоубийства не может уместиться в иудейскую или мусульманскую голову. Там, где нет нисхождения Бога в человека, богоубийство – нелепое слово, лишенное смысла.
Несколько сложнее обстоит дело с идеей человекобога. Это тень богочеловека, тем более грозная, чем отчетливее образ богочеловека. Разница между богочеловеком и человекобогом только в повороте головы. Достаточно повернуть голову от образа вечности к тварям, над которыми дух возвысился, – и воплощение вечности становится подменой вечности. Шанкара предупреждал против этого извращения тождества с вечностью, когда писал: «волна тождественна океану, но океан не тождествен волне». Тождество с Брахманом, Дао, Богом не есть равенство вечности. Это только нераздельность волны или капли с морем. И условие этой нераздельности – смирение. Потеря смирения означает и потерю тождества, падение к воображаемому тождеству, к человекобожию. Это общая опасность религий, в которых выявлена идея вечности. В том числе христианства.
Там, где вечность остается невыявленной, где боги не вечны, человекобожия, в строгом смысле слова, вовсе нет. Ибо нет самого Бога с большой буквы, Творца неба и земли. Между Зевсом и Гераклом нет духовной пропасти, и нет кощунства в том, что Геракл принят в семью богов. Это другая культурная система, в которой боги, по словам Шиллера, были человечнее, а люди божественнее.
Демоническое, ставрогинское человекобожество не столько предшествует христианству или грозит ему извне, сколько вырастает изнутри. Оно враждебно христианству, но как Антихрист Христу: изнутри христианства как культурной системы. И не случайно нынешний безумный мир возник на почве христианской цивилизации, – не индийской, не китайской, не мусульманской...
В царстве теней христианства перекликаются искушения высокой мистики (мистики обожения) и более грубые искушения богоубийства, общие для религии с уязвимыми, смертными богами. И две тени, соединившись, нашли в Ставрогине свое воплощение.
Можно понять Каткова, который не напечатал главы «У Тихона». Но Катков не догадался, что образ Ставрогина без Исповеди становится еще соблазнительнее. Одно дело – туманные слухи о каких-то преступлениях, а другое – надругательство над Матрешей и кража 35 рублей. В Исповеди есть страшные и гадкие подробности, которые разрушают романтический ореол вокруг мнимой нравственной свободы. Без этих подробностей Ставрогин – как Раскольников без лужи крови, вытекшей из разбитой головы Алены Ивановны. От катковской цензуры соблазн мнимой свободы только крепнет. А суть дела ведь в этом соблазне, а не в интересе к нимфеткам.
Соблазн – во всем творчестве Достоевского, и если запрещать, то всего. Но если бояться теней, то придется запретить всякий свет. Запреты и цензура ведут к Великому инквизитору. А христианство Достоевского – религия свободы.
Свобода оборачивается в Ставрогине своей демонической стороной. Она бросает нашему духу вызов. И этот вызов должен быть принят. То есть понят.
Эвклидова и неэвклидова свобода
Мы иногда недостаточно понимаем, что живем не только во времени, но в вечности. И некоторые привычки, некоторые ориентации, верные во времени, неверны при касаниях вечности. Свобода во времени – выбор. Свобода в вечности – любовь.


























