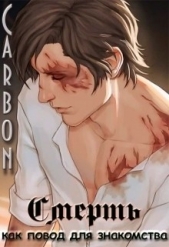Символический обмен и смерть
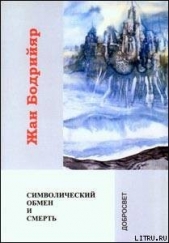
Символический обмен и смерть читать книгу онлайн
Начав свою карьеру как социолог, Жан Бодрийяр (род. в 1929 г.) сегодня является одним из известнейших мировых мыслителей, исследующих феномен так называемого «постмодерна» — новейшего состояния западной цивилизации, которое характеризуется разрастанием искусственных, неподлинных образований и механизмов, симулякров настоящего социального бытия.
В ряду других книг Бодрияра — "Система вещей" (1968), "О соблазне" (1979, "Фатальные стратегии" (1983), "Прозрачность зла" (1990) — книга "Символический обмен и смерть" (1976) выделяется как попытка не только дать критическое описание неокапиталистического общества потребления, но и предложить ему культурную альтернативу, которую автор связывает с восходящими к архаическим традициям механизмами "символического обмена": обменом дарами, жертвоприношением, ритуалом, игрой, поэзией.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
При восстании, вторжении в городскую среду как место воспроизводства кода уже не имеет значения соотношение сил; ведь знаки живут игрой не сил, а отличий, а значит, и атаковать их нужно с помощью отличия — ломать структуру кодов, кодированные отличия с помощью отличия абсолютного, некодифицируемого, при столкновении с которым система сама собой распадается. Для этого не нужны ни организованные массы, ни ясное политическое сознание. Достаточно тысячи подростков, вооруженных маркерами и баллончиками с краской, чтобы перепутать всю сигнальную систему города, чтобы расстроить весь порядок знаков. Все планы нью-йоркского метро покрыты граффити — это та же партизанская тактика, как у чехов, когда они меняли названия пражских улиц, чтобы в них заблудились русские.
City Walls, стенные росписи, вопреки видимости не имеют ничего общего с этими граффити. Собственно, они и возникли раньше них и будут существовать после них. Инициатива такой стенной живописи идет сверху, это проект обновления и оживления города, осуществляемый на муниципальные средства. City Walls Incorporated — это организация, созданная в 1969 году с целью «разработки программы и технических средств стенной живописи». Ее бюджет покрывается городским отделом культуры и рядом фондов, таких как фонд Дэвида Рокфеллера. Ее художественная идеология — «естественный союз зданий и монументальной живописи». Ее цель — «дарить искусство населению Нью-Йорка». Таков же и проект художественных придорожных щитов (bill-board-art-project) в Лос-Анджелесе: «Этот проект был учрежден с целью способствовать созданию художественных изображений, использующих в качестве материала щиты на городских улицах. Благодаря сотрудничеству Фостера и Клейзера (двух крупных рекламных агентств), места размещения рекламных объявлений сделались также и витринами для искусства лос-анджелесских художников. Они образуют динамичную художественную среду и выводят искусство из тесного круга галерей и музеев».
Разумеется, такие акции поручают профессионалам, группе художников, которые в Нью-Йорке объединились в консорциум. Все недвусмысленно: перед нами политика в области окружающей среды, крупномасштабный городской дизайн — от него выигрывают и город и искусство. Ведь город не взорвется от выхода искусства «под открытое небо», на улицу, и искусство тоже не взорвется от соприкосновения с городом. Весь город становится художественной галереей, искусство находит себе новое поле для маневра в городе. Ни город, ни искусство не изменили свою структуру, они лишь обменялись своими привилегиями.
«Дарить искусство населению Нью-Йорка!» Достаточно только сравнить сию формулу с той, что заключена в superkool: «Да, парни, кое-кому это не нравится, но нравится им или нет, а мы тут устроили сильнейшее художественное движение, чтобы вдарить по городу Нью-Йорку».
В этом вся разница. Некоторые из стенных росписей красивы, но это тут совершенно ни при чем. Они останутся в истории искусства, простыми линиями и красками сотворив пространство из слепых и голых стен; самые красивые из них — иллюзионистские, создающие иллюзию пространственной глубины, «расширяющие архитектуру воображением», по словам одного из художников. Но в этом же и их ограниченность. Они обыгрывают архитектуру, по не ломают правил игры. Они реутилизируют архитектуру в сфере воображаемого, по сохраняют ее священный характер (архитектуры как технического материала и как монументальной структуры, не исключая и ее социально-классового аспекта, так как большинство подобных City Walls находятся в «белой», благоустроенной части городов).
Однако архитектура и городское благоустройство, даже преображенные воображением, не могут ничего изменить, так как они сами суть средства массовой информации, и даже в самых дерзких своих замыслах они воспроизводят массовые общественные отношения, то есть не дают людям возможности коллективного ответа. Все, что они могут сделать, это оживить, очеловечить, переоформить городской пейзаж, «оформить» его в широком смысле слова. То есть симулировать обмен и коллективные ценности, симулировать игру и нефункциональные пространства. Таковы детские игровые площадки, зеленые зоны, дома культуры, таковы и City Walls и стены протеста, эти зеленые зоны слова.
Граффити же нимало не заботятся об архитектуре, они марают ее, пренебрегают ею, проходят сквозь нее. В стенной росписи художник сообразуется со стеной, словно с рамой своего мольберта. Граффити же перескакивают с дома на дом, со стены на стену, на окно, или на дверь, или на стекло вагона, или прямо на тротуар; они налезают, изрыгаются на что попало, наползают друг на друга (такое наползание равнозначно отмене материального носителя как плоскости, а выход за его пределы равнозначен его отмене как рамки); их графика напоминает перверсивный полиморфизм детей, игнорирующих половое различие людей и разграничение эрогенных зон. Вообще, любопытно, что граффити заново превращают городские стены и части стен, автобусы и поезда метро — в тело, тело без конца и начала, сплошь эротизированное их начертанием, подобно тому как тело может эротизироваться при нанесении первобытной татуировки. У первобытных народов татуировка, наносимая прямо на тело, наряду с другими ритуальными знаками делает тело телом — материалом для символического обмена; без татуировки, как и без маски, это было бы всего лишь тело как тело — голое и невыразительное. Покрывая стены татуировкой, supersex и superkool освобождают их от архитектуры и возвращают их в состояние живой, еще социальной материи, в состояние колышущегося городского тела, еще не несущего на себе функционально-институционального клейма. Исчезает квадратная структура стен, ведь они татуированы как архаические медали. Исчезает репрессивное пространство/время городского транспорта, ведь поезда метро несутся словно метательные снаряды или живые гидры, татуированные с головы до пят. В городе вновь появляется что-то от родоплеменного строя, от древней наскальной живописи, от дописьменной культуры, с ее сильнейшими, но лишенными смысла эмблемами — нанесенными прямо на живую плоть пустыми знаками, выражающими не личную идентичность, но групповую инициацию и преемственность: «A biocybernetic selffulfilling prophecy world orgy I». [109]
Право же, удивительно видеть, как все это захлестывает собой квадратно-бинарный пейзаж города, над которым высятся две стеклянно-алюминиевые башни World Trade Center, эти неуязвимые сверхзнаки всемогущества системы.
Стенные фрески бывают также и в гетто — создания спонтанно-этнических групп, разрисовывающих стены своих домов. Их социально-политический импульс — тот же, что и в граффити. Это стихийная стенная живопись, не финансируемая городской администрацией. Кроме того, все они тяготеют к политической тематике, выражают революционные идеи: единство угнетенных, мир во всем мире, культурный подъем данной этнической общины, солидарность, реже — насилие и открытую борьбу. В общем, в отличие от граффити, в них есть смысл, сообщение. А в противоположность City Walls, следующих традициям абстрактного искусства, геометрического или сюрреалистического, они всегда отличаются фигуративно-идеалистической направленностью. Здесь проявляется различие между ученым и умелым искусством авангарда, давно превзошедшим наивную фигуративность, и формами народного реализма, несущими сильное идеологическое содержание, но по форме своей «не столь развитыми» (впрочем, их стилистика многообразна, от детских рисунков до мексиканских фресок, от ученой живописи в духе таможенника Руссо или Фернана Леже до обыкновенного лубка, сентиментально иллюстрирующего эпизоды народной борьбы). Во всяком случае, эта контркультура отнюдь не андерграундная, но обдуманная, опирающаяся на культурно-политическое самосознание угнетенной группы.
Здесь опять-таки некоторые фрески красивы, другие не очень. То, что к ним вообще применим такой эстетический критерий, — в известном смысле знак их слабости. Я хочу сказать, что при всей своей стихийности, коллективности, анонимности они все же сообразуются со своим материальным носителем и с языком живописи, пусть даже и в целях политического действия. В этом отношении они могут очень скоро оказаться декоративными произведениями, и некоторые в качестве таковых уже и задуманы, любуясь собственной художественной ценностью. Большинство будет избавлено от такой музеификации скорым сносом заборов и старых стен; здесь муниципалитет не оказывает поддержки искусству, а носитель у этих фресок — черный, как и у всего гетто. И все же их умирание происходит иначе, чем в случае с граффити, которые систематически подвергаются полицейским репрессиям (их даже запрещают фотографировать). Дело в том, что граффити наступательнее, радикальнее — они вторгаются в город для белых, а главное, они по ту сторону идеологии и художества. Это почти парадокс: в то время как стены негритянских и пуэрториканских кварталов, даже если фрески на них не подписаны, всегда несут на себе некоторую виртуальную подпись (ссылку на определенное политическое или культурное, если не художественное движение), то граффити, хоть и представляют собой просто-напросто имена, обходятся совершенно без всякой референции, без всякого происхождения. Они единственно стихийны, поскольку их сообщение равно нулю.