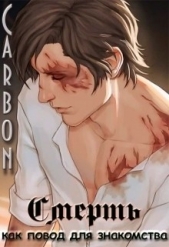Символический обмен и смерть
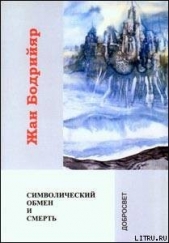
Символический обмен и смерть читать книгу онлайн
Начав свою карьеру как социолог, Жан Бодрийяр (род. в 1929 г.) сегодня является одним из известнейших мировых мыслителей, исследующих феномен так называемого «постмодерна» — новейшего состояния западной цивилизации, которое характеризуется разрастанием искусственных, неподлинных образований и механизмов, симулякров настоящего социального бытия.
В ряду других книг Бодрияра — "Система вещей" (1968), "О соблазне" (1979, "Фатальные стратегии" (1983), "Прозрачность зла" (1990) — книга "Символический обмен и смерть" (1976) выделяется как попытка не только дать критическое описание неокапиталистического общества потребления, но и предложить ему культурную альтернативу, которую автор связывает с восходящими к архаическим традициям механизмами "символического обмена": обменом дарами, жертвоприношением, ритуалом, игрой, поэзией.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Есть несколько видов такого головокружения реалистической симуляции:
I. Деконструкция реальности на ее детали — замкнутое в себе парадигматическое склонение объекта по падежам, сплющенность, линейность и серийность частичных объектов.
II. Самоотражение — всевозможные эффекты раздвоения и удвоения объекта в одной из его деталей. Такое умножение объекта выдает себя за глубинный взгляд, даже за критический метаязык, и при рефлексивном устройстве знака, в рамках диалектики зеркала это, пожалуй, действительно было так. Теперь же это бесконечное преломление объекта оказывается не более чем другим типом серийности: реальность в нем уже не отражается, а инволютивно свертывается до полного истощения.
III. Собственно серийная форма (Энди Уорхол). Здесь отменяется не только синтагматическое измерение, по заодно и парадигматическое, потому что вместо видоизменения форм или даже внутреннего самоотражения имеет место простая соположенность одинакового: и флексивность и рефлексивность равны нулю. Как сестры-близнецы на эротической фотографии: плотская реальность их тел обращается в ничто их подобием. Куда направлять психическую инвестицию, если красота одной тут же дублируется красотою другой? Взгляду остается только двигаться между ними, и всякое видение замыкается в этом движении туда-сюда. Утонченный способ убийства оригинала, по также и странный соблазн, где всякая направленность на объект перехвачена его бесконечным самопреломлением (сценарий, обратный платоновскому мифу или же воссоединению двух разделенных половинок символа, — здесь знак размножается делением, словно инфузория). Быть может, этот соблазн есть очарование смерти, в том смысле что для пас, живых существ, обладающих полом, смертью является, возможно, не небытие, а просто дополовой способ воспроизводства. Действительно, бесконечная цепь копий одной порождающей модели смыкается с размножением одноклеточных и противостоит половому размножению, которое для нас отождествляется с жизнью.
IV. Однако такая чистая машинальность — по-видимому, все же парадоксальная крайность; настоящей генеративной формулой, вбирающей в себя все прочие и образующей, так сказать, стабилизированную форму кода, является формула бинарности, кибернетической двоичности — не чистое повторение, а мельчайшее отклонение, минимальный зазор между двумя элементами, то есть «мельчайшая общая парадигма», способная поддерживать фикцию смысла. В произведении живописи и в предметах потребления это была комбинаторика отличий; в современном искусстве эта симуляция сокращается до бесконечно малого зазора, еще разделяющего гиперреальность и гиперживопись. Эта последняя пытается истончиться, пожертвовать собой, самоустраниться перед реальностью, но известно, как в этом ничтожно малом различии вновь оживают все чары искусства: теперь вся живописность скрывается в узкой кайме между картиной и стеной. И еще в подписи — метафизическом знаке живописи и всей метафизики репрезентации, в той предельной точке, где она сама становится своей моделью («чистым взглядом») и обращается сама на себя в навязчивом повторении кода.
Само определение реальности гласит: это то, что можно эквивалентно воспроизвести. Такое определение возникло одновременно с наукой, постулирующей, что любой процесс можно точно воспроизвести в заданных условиях, и с промышленной рациональностью, постулирующей универсальную систему эквивалентностей (классическая репрезентация — это не эквивалентность, а транскрипция, интерпретация, комментарий). В итоге этого воспроизводительного процесса оказывается, что реальность — не просто то, что можно воспроизвести, а то, что всегда уже воспроизведено. гиперреальность.
Итак, значит, конец реальности и конец искусства в силу их полного взаимопоглощения? Нет: гиперреализм есть высшая форма искусства и реальности в силу обмена, происходящего между ними на уровне симулякра, — обмена привилегиями и предрассудками, на которых зиждется каждое из них. Гиперреальность лишь постольку оставляет позади репрезентацию (см. статью Ж.-Ф.Лиотара в посвященном гиперреализму номере «Ар виван»), поскольку она всецело заключается в симуляции. Коловращение репрезентации приобретает в ней безумную скорость, но это имплозивное безумие, которое вовсе не эксцентрично, а склоняется к центру, к самоповторению и самоотражению. Это аналогично эффекту дистанцирования от собственного сновидения, когда мы говорим себе, что видим сон, но это всего лишь игра цензурирования и продления сна; так и гиперреализм является составной частью кодированной реальности, которую он продлевает и в которой ничего не меняет.
На самом деле гиперреализм следует толковать в противоположном смысле: сегодня сама реальность гиперреалистична. Уже и секрет сюрреализма состоял в том, что наибанальнейшая реальность может стать сверхреальной, но только в особые, привилегированные моменты, еще связанные с художеством и с воображаемым. Сегодня же вся бытовая, политическая, социальная, историческая, экономическая и т. п. реальность изначально включает в себя симулятивный аспект гиперреализма: мы повсюду уже живем в «эстетической» галлюцинации реальности. Старый лозунг «Реальность превосходит вымысел», соответствовавший еще сюрреалистической стадии эстетизации жизни, ныне сам превзойден: нет больше вымысла, с которым могла бы сравняться жизнь, хотя бы даже побеждая его, — вся реальность сделалась игрой в реальность: радикальное разочарование, кибернетическая стадия cool сменяет фантазматическую стадию hot.
Так, чувство виновности, страх и смерть могут подменяться наслаждением чистыми знаками виновности, отчаяния, насилия и смерти. Это и есть эйфория симуляции, стремящейся к отмене причины и следствия, начала и конца, к замене их дублированием. Подобным способом любая замкнутая система предохраняет себя одновременно и от референциальности и от страха референциальности — и от всякого метаязыка, упреждая его игрой своего собственного метаязыка, то есть дублируя себя собственной критикой. При симуляции металингвистическая иллюзия дублирует и дополняет собой иллюзию референциальную (патетическая галлюцинация знака — и патетическая галлюцинация реальности).
«Какой-то цирк», «настоящий театр», «как в кино» — таковы старые выражения, которыми разоблачали иллюзию во имя натурализма. Теперь на повестке дня уже не это, а сателлизация реальности: на орбиту выходит некая неразрешимая реальность, несоразмерная с иллюстрировавшими ее прежде фантазмами. А недавно такая сателлизация словно материализовалась, когда на орбиту реально вывели (как бы возвели в космическую степень) двухкомнатную квартирку с кухней и душем — под названием лунного модуля. Сама обыденность этого земного жилища, вознесенного в ранг космической ценности, абсолютной декорации, гипостазированной в космическом пространстве, — есть конец метафизики и наступление эры симуляции. [107] И такая космическая трансценденция банальной двухкомнатной квартиры, и ее машинное cool-изображение в гиперреализме [108] имеют одинаковый смысл: лунный модуль, такой как он есть, уже принадлежит к гиперпространству репрезентации, где каждый обладает технической возможностью моментального воссоздания своей жизни, где пилоты разбившегося в Ле-Бурже «Туполева» могли на своих мониторах наблюдать собственную гибель в прямом показе. Это явление того же разряда, что и короткое замыкание ответа на вопрос при тестировании — процесс моментального продления, в ходе которого реальность сразу же оказывается заражена собственным симулякром.
Раньше существовал особый класс аллегорических, в чем-то дьявольских объектов: зеркала, отражения, произведения искусства (концепты?) — хоть и симулякры, но прозрачные, явные (изделие не путали с подделкой), в которых был свой характерный стиль и мастерство. И в ту пору удовольствие состояло скорее в том, чтобы в искусственном и поддельном обнаружить нечто «естественное». Сегодня же, когда реальное и воображаемое слились в одно операциональное целое, во всем присутствуют эстетические чары: мы подсознательно, каким-то шестым чувством, воспринимаем съемочные трюки, монтаж, сценарий, передержку реальности в ярком свете моделей — уже не пространство производства, а намагниченную знаками ленту для кодирования и декодирования информации; реальность эстетична уже не в силу обдуманного замысла и художественной дистанции, а в силу ее возведения на вторую ступень, во вторую степень, благодаря опережающей имманентности кода. Над всем витает тень какой-то непреднамеренной пародии, тактической симуляции, неразрешимой игры, с которой и связано эстетическое наслаждение — наслаждение самим чтением и правилами игры. Тревелинг знаков, масс-медиа, моды и моделей, беспроглядно-блестящей атмосферы симулякров.