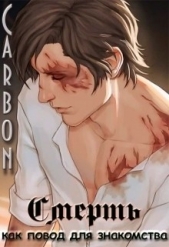Символический обмен и смерть
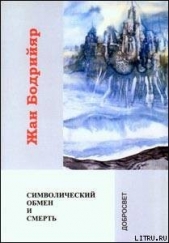
Символический обмен и смерть читать книгу онлайн
Начав свою карьеру как социолог, Жан Бодрийяр (род. в 1929 г.) сегодня является одним из известнейших мировых мыслителей, исследующих феномен так называемого «постмодерна» — новейшего состояния западной цивилизации, которое характеризуется разрастанием искусственных, неподлинных образований и механизмов, симулякров настоящего социального бытия.
В ряду других книг Бодрияра — "Система вещей" (1968), "О соблазне" (1979, "Фатальные стратегии" (1983), "Прозрачность зла" (1990) — книга "Символический обмен и смерть" (1976) выделяется как попытка не только дать критическое описание неокапиталистического общества потребления, но и предложить ему культурную альтернативу, которую автор связывает с восходящими к архаическим традициям механизмами "символического обмена": обменом дарами, жертвоприношением, ритуалом, игрой, поэзией.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Можно предвидеть, что децентрализация производства, всей сферы материального производства положит конец исторической соотнесенности города с рыночным производством. Система может обойтись без фабрично-производственного города, без пространства/времени товаров и товарно-рыночных отношений. Имеются уже признаки подобной эволюции. Но она не может обойтись без города как пространства/времени кода и воспроизводства, ведь власть есть по определению централизованность кода.
Оттого первостепенной политической важностью обладают сегодня любые выступления против этой семиократии, этой новейшей формы закона ценности — тотальной взаимоподстановочности элементов в рамках функционального целого, где каждый элемент осмыслен лишь в качестве структурной переменной, подчиненной коду. Таковы, например, граффити.
Действительно, в подобных условиях радикальным бунтарством становится уже заявить: «Я существую, меня зовут так-то, я с такой-то улицы, я живу здесь и теперь». Но это было бы еще только бунтарством ради идентичности — борьба против анонимности, отстаивание своего имени и своей реальности. Нью-йоркские граффити идут дальше: всеобщей анонимности они противопоставляют не имена, а псевдонимы. Они стремятся вырваться из комбинаторики не затем, чтобы отвоевать все равно недостижимую идентичность, а чтобы обернуть против системы сам принцип недетерминированности — обратить недетерминированность в истребительную экстерминацию. Код оказывается обращен сам против себя, по своей же логике и на своей же территории, что позволяет победить его, превзойдя в ирреференциальности.
superbee spix cola 139 kool guy crazy cross 136 — это не значит ничего, это даже не чье-то имя, а нечто вроде символического матрикуляриого номера, чья задача сбить с толку обычную систему наименований. В его элементах нет ничего оригинального — все они взяты из комиксов, где были заключены в рамки вымышленных историй, но из этих рамок они резко вырываются, проецируясь на реальность как крик, междометие, анти-дискурс, как отказ от всякой синтаксической, поэтической, политической обработки, как мельчайший элемент, радикально неприступный для какого бы то ни было организованного дискурса. Непобедимые в силу самой своей скудости, они противятся любой интерпретации, любой коннотации, да и денотата у них нет никакого; избегая как денотации, так и коннотации, они тем самым оказываются неподвластными и самому принципу сигнификации и вторгаются в качестве пустых означающих в сферу полновесных знаков города, разлагая ее одним лишь своим присутствием.
В этих именах нет интимности, как нет ее и в гетто — оно живет без частной жизни, зато в процессе интенсивного коллективного взаимообмена. Эти имена отстаивают не чью-либо идентичность или личность, а радикальную исключительность клана, группировки, банды, возрастной, этнической или иной группы, принадлежность к которым, как известно, реализуется через присвоение имени и через беззаветную верность этому тотемному наименованию, пусть даже оно происходит напрямую из андерграундных комиксов. Структура нашего общества отрицает подобного рода символические наименования — она нарекает каждого именем собственным и наделяет его приватной индивидуальностью, разрушая всякую солидарность во имя абстрактно-универсальной социальности города. Эти же имена или родоплеменные прозвища обладают настоящей символической инвестицией: они созданы для дарения, обмена, передачи, бесконечной смены в анонимной стихии — только анонимность здесь коллективная, и эти имена в ней как этапы инициации, переходящей от одного к другому по цепочке обмена, так что они, как и весь язык в целом, не принадлежат никому.
В этом состоит настоящая сила символического ритуала, и в этом смысле граффити идут наперекор всем рекламно-медиатическим знакам, которые заполняют стены наших городов и могут создать обманчивое впечатление таких же заклинаний. Рекламу соотносили с праздником: без нее городская среда была бы унылой. Но на самом деле она представляет собой лишь холодную оживленность, симулякр призывности и теплоты, она никому не подает знака, не может быть подхвачена автономным или коллективным прочтением, не создает символической сети. Реклама — это все равно что стена, даже хуже тех стен, которые ее несут, — стена функциональных знаков, созданных для декодирования и исчерпывающих им весь свой эффект.
Вообще, все медиатические знаки происходят из этого бескачественного пространства, из этой стены надписей, вздымающейся между производителями и потребителями, отправителями и получателями знаков. Как сказал бы Делёз, это городское тело без органов, в котором пересекаются текущие по установленным руслам токи. Граффити же связаны с территорией. Они территориализуют декодированное городское пространство — через них та или иная улица, стена, квартал обретают жизнь, вновь становятся коллективной территорией. И они не ограничиваются одними лишь кварталами гетто — они разносят гетто по всем городским артериям, вторгаются в город белых и делают явным тот факт, что он-то как раз и есть настоящее гетто западной цивилизации.
Вместе с ними в город вторгается лингвистическое гетто — своего рода мятеж знаков. До сих пор в ряду других знаков городской сигнализации граффити находились на низменном сексуально-порнографическом уровне, на уровне надписей, стыдливо вытесненных в общественные туалеты и на пустыри. Более или менее наступательный характер имели только завладевшие стенами политико-пропагандистские лозунги, полновесные знаки, для которых стена еще служит носителем, а язык — традиционным средством сообщения. Ни стена как таковая, ни функциональность знаков как таковая их не интересуют. Пожалуй, только в мае 1968 года во Франции граффити и афиши захлестывали стены по-другому, взяв в оборот сам свой материальный носитель, вернув стенам ту стихийную изменчивость, внезапность надписи, что равнозначна их полной отмене. Надписи и фрески на стенах Нантерского университета как раз и осуществляли такое антимедиатическое действие — захват стены как означаемого функционально-террористической разметки пространства. Это доказывается тем фактом, что у администрации хватило ума не стирать их и не окрашивать заново стены: эту функцию взяли на себя массовые политические лозунги и афиши. В репрессии не было нужды: крайне левые масс-медиа сами вернули стенам их функциональную слепоту. Позднее получила известность стена протеста в Стокгольме — свобода протестовать на определенном пространстве, на соседних же стенах граффити запрещаются.
Была еще недолговечная попытка завоевать на свою сторону рекламу. Попытка, ограниченная своим материальным носителем, но все же использовавшая направления, разработанные самими средствами массовой информации (метро, вокзалы, афиши). Была и попытка Джерри Рубина и американской контркультуры прорваться на телевидение. Попытка политического захвата крупнейшего массового средства информации — но лишь на уровне содержания, не меняя самого средства информации.
В случае с нью-йоркскими граффити впервые были использованы столь широко и столь вольно-наступательно городские артерии и подвижные носители. А главное, впервые объектом атаки оказались масс-медиа в самой своей форме, то есть в присущем им способе производства и распространения знаков. И это именно оттого, что в граффити нет содержания, нет сообщения. Эта пустота и образует их силу. Тотальное наступление на уровне формы не случайно сопровождается отступлением содержания. Это вытекает из революционной интуиции — догадки о том, что глубинная идеология функционирует теперь не на уровне политических означаемых, а на уровне означающих, и что именно с этой стороны система наиболее уязвима и должна быть разгромлена.
Так проясняется политическое значение этих граффити. Они родились на свет в результате подавления волнений в городских гетто. Под действием репрессий бунт разделился на две части — с одной стороны, чисто политическая, твердокаменно-доктринальная марксистско-ленинская организация, а с другой стороны, этот стихийно-культурный процесс, происходящий в сфере знаков, без всякой цели, идеологии и содержания. Иные усматривают подлинно революционную практику в первом из этих двух течений, а граффити расценивают как что-то несерьезное. На самом деле все наоборот: неудача выступлений 1970 года привела к спаду традиционной политической активности, зато к радикализации бунта на подлинно стратегическом направлении, в области тотального манипулирования кодами и значениями. Так что это вовсе не бегство в сферу знаков, а напротив, огромный шаг вперед в теории и практике — эти два начала здесь именно что не разобщены под действием организации.