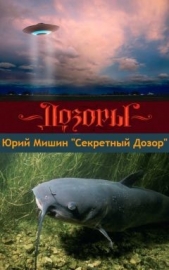За гранью цинизма (СИ)

За гранью цинизма (СИ) читать книгу онлайн
В почтовом ящике Елена нашла письмо не только без обратного адреса, но и почтового штемпеля. Не менее загадочным оказался и текст: «Хочу быть Богом вашего тела и Дьяволом — вашей души». Подпись — не менее оригинальная: «Ни в чем не повинный Узник собственных чувств». Потом появилось второе: «Очаровательная незнакомка! Я о вас знаю очень мало. Но вижу ежедневно. И это доставляет мне истинное наслаждение. Заранее предупреждаю: не пытайтесь угадать, кто я — все равно не удастся».
Не всякий мужчина удержится, чтобы не попытаться «разгадать». А уж женщина, да еще безмужняя, к тому же, в отличие от подруг, страстно желающая связать себя брачными узами…
Обманываемая даже не подозревает: божеского у «узника собственных чувств» — ни грана, зато дьявольского — хоть отбавляй! Он — не безжалостен, он переступил через грань самого отъявленного цинизма.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
…На обеденный перерыв в бытовке, не ремонтированной со времен социализма, собрались Елена, Николай, Пеликан и Фомингуэй.
Несколько пояснительных слов о прозвучавших кличках.
Пеликаном за молчаливость прозвали Василия (как известно не только орнитологам, эта птица — самая тихая из пернатых). Он действительно любил всех без исключения представителей фауны — летающих, бегающих, ползающих, передвигающихся скачками и пятящихся назад. Дома держал, кроме породистого боксера и персидской кошки, хомяка, ужа, ежа и полоза. Поскольку супруга ухаживать за этим зоопарком уже давно наотрез отказалась, холил и лелеял «выводок» глава столь многочисленного семейства. И настолько уходил в общение с братьями меньшими, что постепенно они во многом заменили ему людей. Василий замкнулся в себе, стал необычайно молчаливым и на любое обращение к нему откликался с видимой неохотой. Казалось, он и на работе вел немой диалог со своими питомцами. Впрочем, на служебной квалификации это не сказывалось.
Интереснее история с Михаилом Фоминым. Он, выполняя скромные обязанности лаборанта с незапамятных времен, пробовал себя — по мнению окружающих, исключая горячо обожаемую тещу, безуспешно, — еще в поэзии и живописи. Изредка, если сильно повезет, тискал бездарные статейки в какой-нибудь из расплодившихся, подобно мухам-дрозофилам, газет. Реже — выставлялся в школе, где училась дочь, в качестве самодеятельного художника. Но мнил о себе, как о талантливой личности, которую затирают и не понимают. Любил посудачить о кумирах с нарочитой небрежностью — как о коллегах, не более. Особенно на этот счет «везло» Хемингуэю. Производное от фамилий — великого писателя и лаборанта — и стало кличкой последнего.
Проливал творческий пот в лаборатории Бородач — старший научный сотрудник с редкой даже для потомка запорожских казаков фамилией Задерихвост. Особо разговорчивым назвать его тоже язык не поворачивался. Но, если обстоятельства того требовали, за словом в карман не лез. Говорил в таких случаях темпераментно и горячо. И, главное, всегда — по сути. Что еще? В пору студенчества женился. И, случится же такому, жена влюбилась в богатого аспиранта-африканца и укатила с ним куда-то в Малави.
Лицо Бородача украшал шрам — следствие неразумных детских шалостей. Как-то подростки, найдя в лесу патроны, бросили их костер. Им несказанно повезло: пострадал только Хвост, как именовали старшего научного в те далекие годы других игрищ и забав. По мнению Елены, единственной представительницы прекрасного пола в лаборатории, шрам придавал их коллеге разительное сходство с суровым спартанцем.
Нехитрую обеденную трапезу (куда только девались спонсорские иены?) с остальными Задерихвост до последнего времени разделял крайне редко: предпочитал ездить домой, благо у него была машина и всегда находилась лишняя гривня на бензин. Но вот уже месяц регулярно приносил снедь с собой. Приболела матушка, объяснил он, и ей стало трудно готовить и днем, и вечером. Вот и сегодня ввалился в бытовку, где уже хлопотали остальные.
— Да помоет посуду и уберет со стола, — тут же провозгласил Николай, — всяк сюда входящий … в последнюю очередь!
— Предложение поддерживаю! — тут же поддержал Фомингуэй, которому заниматься столь прозаичным и малоприятным делом как раз подошла очередь. — Ставлю на голосование!
— Воздерживаюсь! — подал голос Пеликан.
И добавил:
— И от голосования, и от мытья.
— Черт с вами, согласен! — бросил на стол принесенный из дома сверток Задерихвост. — В надежде, что дама не откажет в квалифицированной помощи. Как думаешь, Фомингуэй, не напрасны мои надежды?
— Главное не в том, оправдаются они или нет, — принялся всерьез «философствовать» лаборант-многостаночник. — Соль — в другом. А именно в том, что время, когда живешь надеждами, — всегда прекрасно.
— Интересно, — наморщил лоб Николай, — есть ли в надеждах что-нибудь, кроме надежд? Что скажешь, артист? — повернулся он к Фомингуэю.
— Мы с тобой, кажется, в одном театре не играли! — беззлобно огрызнулся тот.
— Ошибаешься, — не унимался Николай. — Причем на все сто. Шекспир как написал? «Весь мир — театр. В нем женщины, мужчины — все актеры».
— Великий драматург наверняка и не подозревал, как много в этой труппе плохих актеров, — Бородач придвинул табуретку поближе к столу и взгромоздился на нее.
— Тем не менее, — я хочу сыграть на сцене под названием Жизнь все без исключения роли, которые мне по душе. — Николай на мгновенье погрустнел, что ему было не свойственно. — Даже если отдельные из них с треском провалю.
— Ты забываешь о главном, — включилась в разговор Елена. — Проваленную тобой роль, не исключено, а скорее наверняка, другой сыграл бы с блеском. На «бис». Да и расплата тебе за провал — свист и улюлюканье «публики», а твоим «партнерам» спектакль может обернуться исковерканными судьбами.
Право, становится не по себе, когда хотя бы на миг представишь эти апокалиптичных размеров подмостки — планету Земля. Нас, таких разных и непохожих, наивных порою, а порою — жестоких. И «спектакль», продолжающийся без антракта день и ночь, год за годом, тысячелетие за тысячелетием.
— Глядя на «актеров», - Пеликан сегодня, похоже, бьет все рекорды болтливости, — невольно вспоминаешь один из краеугольных постулатов материализма: души не существует, она — ни что иное, как добросовестное заблуждение идеалистов. И начинаешь сомневаться.
Нет, ни в какую чертовщину я не верю. Равно как и в загробный мир. Отвергаю с порога всяких там Аланов Чумаков и Павлов Глоб, бессовестно — и небескорыстно, заметьте! — эксплуатирующих человеческое невежество.
Но в душу — да! Не в том смысле, что она обязательно материальна и не в том, что она есть субстанция, способная существовать отдельно от тела. Я верю в нее, как в совокупность всего лучшего, что накопила цивилизация в нравственной сфере. Только такое существование души «актера» делает его талантливым на «сцене». Сильным, но не жестоким. Добрым, но не бесхребетным. Готовым жертвенно служить, но не прислуживать.
— И все-таки, как часто многие из нас — «актеров» — уподобляются стае рассерженных домашних гусей. — Бородач допил кофе и поставил чашку на подоконник, у которого удобно расположился. — Они после того, как покричат на непонравившегося прохожего, расправляют внушительного размера крылья и с победным «га-га-га» бегут вдоль улицы. Глупые, жирные птицы, не отрываясь от земли, переживают благословенный миг полета. На самом деле им никогда не взглянуть из поднебесной высоты окрест, как многим их сородичам, но уже из разряда двуногих приматов.
— Блажен, кто верует! — съязвил Фомингуэй.
Николай, подражая записным трагикам, сложил руки на груди, потом картинно воздел их вверх:
— У-бе-ди-ли! Ухожу в режиссеры в театр имени Леси Украинки.
— Что за комедию тут ломаете? — порог бытовки переступил завлаб Георгий Павлович. — Перерыв, к вашему сведению, три с половиною минуты назад закончился. А науку двигают вперед не те, кто вовремя уходит с работы, а те, кто на нее вовремя является. Да и патриотом брюха ныне быть невыгодно — харчи дорогие.
Впрочем, я к вам с новостью…
— Неужели появились дополнительные средства? — воистину повозку мысли Николая подстегивать не приходилось. Слова у него вылетали, как камешки из-под колес мчащейся во весь опор телеги.
В другой ситуации подначить товарищи коллеги не преминули бы, но сейчас все внимание было сосредоточено на Георгии Павловиче.
— Да! — подтвердил догадку подчиненного завлаб. Начинаем уже завтра. Быть подготовленными, как к первой брачной ночи.
Георгий Павлович небрежно стряхнул невидимую пылинку с борта тщательно отутюженного пиджака:
— Развели тут антисанитарию, понимаешь!
— Уборщицу-то не мы сокращали, — оперся рукой о спинку стула Фомингуэй. — Да и особого беспорядка я не вижу. А со стола сейчас уберем.
Все в лаборатории, да и институте, знали о патологической любви Георгия Павловича к чистоте. Вряд ли он, как Владимир Маяковский, после каждого рукопожатия бежал мыть пятерню с мылом, однако носовым платочком вытирал обязательно. Правда, дела это интеллигентно, отвернувшись или на минуту выйдя, чтобы не обидеть мало знающего его человека. Так что и ворчание по поводу «грязи» в бытовке можно было отнести на счет прирожденного чистоплюйства. В остальном он оставался милейшим мужиком.