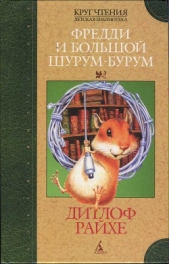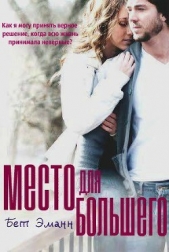Тристан 1946

Тристан 1946 читать книгу онлайн
Творчество Марии Кунцевич — заметное явление в польской «женской» прозе 1930-1960-х гг.
Роман «Тристан 1946» написан в 1967 году уже зрелым мастером. В нем по-прежнему сильны романтические мотивы, а сюжет восходит к древней легенде о Тристане и Изольде, хотя события разворачиваются в послевоенной Англии и все действующие лица — наши современники.
«Тристан 1946» — роман, задуманный в годы эмиграции, — своеобразная интерпретация древней легенды, миф в современных одеждах. История любви польского «Тристана» и ирландки «Изольды», лежащая в основе повести, по накалу страстей не уступает средневековому первоисточнику.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
И вот теперь я сидела на крылечке в окружении овец и пчел, вглядываясь не столько в шоссе, сколько в войну, прислушиваясь не столько к собственным мыслям, сколько к грохоту машин, пересекавших границу. Подобно дельфийской прорицательнице, я старалась различить чуть слышные голоса будущего. Жертвы были принесены, запах дыма и крови вытеснял запахи лета, коверкались судьбы. Люди, связанные неверным выбором, обреченные на пожизненную каторгу, могли теперь бежать на свободу.
Я знала, что Петр не приедет за мной ни сегодня, ни завтра. При любом, даже самом слабом, колебании общественной атмосферы дом и семья переставали для него существовать. В те минуты, когда такие огромные глыбы — как народ, родина, государство — теряли вдруг привычное равновесие, он не выносил ничего, что могло бы его как-то отвлечь; женщина, ребенок, чья-то грусть или радость — даже думать об этом казалось ему верхом легкомыслия. Если я или Михал появлялись в то время на его пути, он приходил в ярость. Эта его черта была мне ненавистна, и все же в свое время в подобной ситуации я видела в нем строителя Сольнеса. Увы, на смену прежнему горячему признанию давно пришло уважение с оттенком недоброжелательности.
Но там, в глубине, где когда-то спрятано было крохотное тельце младенца, ставшего потом Михалом, я чувствовала боль. Болью веяло и от всех тех шоссе и улиц, по которым он от меня уходил. И от всех тех бесконечно долгих часов моего безнадежно-напрасного ожидания, потому что если он в тот день и искал кого-то среди телег, испуганных лошадей и трупов, то только отца своего — Петра.
Возле крылечка остановился автомобиль. Кто-то, махая рукой, выскочил из машины и взбежал на крыльцо. Это был Фредди Бёрнхэм, мой шеф из посольства. Я тупо смотрела на то, как он бросал в свой чемодан мои вещи. Я не слышала, что он мне говорил. Я пришла в себя только в Румынии. Так, только по воле чистого случая, я оказалась за пределами моей собственной границы.
В Лондоне жил Франтишек. Когда весной 1940 года Фредди познакомил нас, Франтишек был красив, с густой гривой волос а la Падеревский. Он оглядел меня с ног до головы и сказал: «Притти!» [2]. Франтишек, журналист по профессии, ценил в женщинах достоинства, которые могли бы быть полезны мужчине, но интеллигентность не входила в число этих необходимых качеств. Меня он полюбил за умение варить украинский борщ и еще за то, что секретарская работа в посольстве приучила меня скрывать свой собственный взгляд на вещи. Франтишек уехал в Англию в тридцатые годы. Из иностранного корреспондента он постепенно превратился в уполномоченного фирмы по продаже чая; много зарабатывал. Сохранил вкус к политике и свои связи в лейбористской партии старался использовать «на благо Польше».
Получив от Михала письмо, я вспомнила о нем. В годы войны известия частного порядка — главным образом скверные — распространялись гораздо быстрее, чем политические новости, и я довольно быстро узнала, что после моего отъезда Петр сошелся с какой-то Анной и что Михал жил вместе с ними. Петра застрелили в сорок втором году, позднее погибла Анна. Франтишек проверил все факты официальным путем, и вскоре Фредди предложил мне руку и сердце. Но я не могла простить англичанам одинокой борьбы Петра, его крысиной жизни под землей и напрасной смерти. Ночами, когда я лежала рядом со спящим Фредди, все во мне восставало против того, что принесло время, я снова возвращалась к сентябрю 1939 года, молча старалась соразмерить свой шаг с шагами высокого худощавого Сольнеса, вспоминая его ястребиный профиль и маленький рот, и вместе с ним, с этим не любимым мною Петром, шла на верную, безрассудную, отважную смерть у развалин башни. Я видела его взгляд фанатика, и меня охватывала дрожь; только теперь я понимала, какой он был мужественный, красивый, при всей своей практичности, неподкупный и, несмотря на неожиданные вспышки жестокости, великодушный человек. Я проклинала свою нетерпимость и слепоту. Сбежала от Фредди. Если бы не Франтишек, меня бы давно не было на свете. Но он, как это часто случается со старыми холостяками, присосавшимися к чужим судьбам, внимательно следил за мной. Он без труда отыскал меня в мастерской моей приятельницы-художницы, которая, уезжая из Лондона, оставила мне ключи от квартиры, и в последнюю минуту выбил из моих рук револьвер.
Точно такое же отвращение к собственной жизни охватило меня после того, как я прочла письмо Михала. В сентябре Михалу исполнилось двадцать два года. Я прекрасно понимала, что тогда, в Луцке, он отстал от меня не случайно. И что тот рождественский вечер, когда моим нежностям он предпочел кочергу, незаметно разросся в сотни вечеров, а мой союз с Фредди компрометировал меня куда больше, чем моя любовь к Яну. Но все же я решила тотчас же ехать за Михалом в Германию.
И снова Франтишек выбил из моих рук оружие. Франтишек постарел, пышная шевелюра давно облезла, появилась искусственная челюсть, но интереса к чужим судьбам он не утратил. Вскоре после нашего телефонного разговора он приехал в Пенсалос, привез мне на подпись всевозможные документы и бланки, которые я должна была заполнить. «Фредди никогда бы не допустил, чтобы ты поехала. У тебя нет нужных связей. У меня они есть, и я поеду за Михалом».
Я успокоилась. Магия воскресшего, чисто вещественного контакта пробудила во мне самые дорогие воспоминания. Рука, писавшая это письмо, когда-то, в младенчестве, сжатая в кулачок, касалась моего лица, склоненного над коляской. Губы, которые касались краешка конверта, когда-то жадно хватали мою грудь. Мне вспомнились первые сказанные им слова, толстые ручонки, обвивавшие мою шею, радость примирения, ребячьи шалости. Мое собственное детство и детство Михала слились воедино, и глаза наполнились слезами.
Франтишек уехал и долго не возвращался. А я все читала и вновь перечитывала письмо Михала и постепенно угадывала в нем иной смысл. Разве таким должно быть письмо сына к матери, которой он не видел шесть лет? Суховатым? Ироничным? Кто знает, к чему теперь тянулись эти, когда-то беспомощные, руки и какие, может быть, недобрые слова готовы были сорваться с этих губ. Даже мысль о том, что Михалу пришлось перенести, вызывала у меня скорее раздражение, чем сочувствие. Ведь он нарочно тогда остался в Луцке! Выбрал не меня, а отца! И почему он за шесть лет не написал мне ни слова, не пробовал разыскать через Красный Крест, как делали это другие люди? И почему он вдруг захотел, чтобы я родила его заново, для иного мира, теперь, когда молодость моя прошла и боль предвещает не радость, а смерть? Получив телеграмму Франтишека, я встрепенулась было, как испуганная утка. Но сил уже не было.
Михал приехал в Лондон десятого сентября сорок шестого года. Вечером Франтишек позвонил мне и передал ему трубку. «Мама?» — спросил мужской голос, чужой, незнакомый, а вместе с тем трогающий душу, исполненный затаенных намеков. Я испугалась. У моего сына и вдруг такой голос! Слово «мама» прозвучало как имя женщины, с которой ее прежний любовник хотел бы снова встретиться. В ответ я пробормотала что-то невнятное.
Один бог знает, что мне снилось этой ночью. Утром я написала Франтишеку письмо, в котором просила его на какое-то время задержать Михала в Лондоне. «Отведи его к врачам, — писала я, — покажи музеи. И только, ради Бога, — не тащи к «ветеранам», пусть он забудет о прошлом. Напиши мне, какой он теперь». Письма Франтишека я сохранила. Вот отрывки из них, касающиеся Михала:
«20 сентября 1946 года.
Дорогая Притти, как ты мне велела, я взял Михала к себе. Какой он, я пока не знаю. Долговязый, худой, с неправильными чертами лица и ловкими руками. Английский он знает скверно, но и по-польски разговаривает неохотно. Он никогда сразу не соглашается делать то, о чем его просишь, а потом, когда уже я думаю о чем-то совсем другом, вдруг идет на уступки. Если бы не его улыбки, неожиданные, словно скоропостижная смерть, я вообще бы утратил к нему всякий интерес. Сначала он отталкивает людей, а потом снова приманивает их, как ребенок, пускаясь на всякие уловки, сопротивляться которым невозможно. Обожает цирк. С жокеем, с которым познакомился на скачках, легко нашел общий язык. С врачами дело пошло труднее. Он все выкручивался, не хотел к ним идти, пока я не пригрозил, что созову дома консилиум. Доктор, должно быть, изрядно с ним намучился, но все же осмотрел и сделал рентген. По мнению доктора, в лагере Михала подвергали пыткам. Это видно по рентгеновским снимкам.