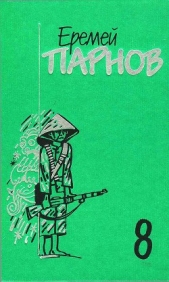Черный Ферзь

Черный Ферзь читать книгу онлайн
Идея написать продолжение трилогии братьев Стругацких о Максиме Каммерере «Черный Ферзь» пришла мне в голову, когда я для некоторых творческих надобностей весьма внимательно читал двухтомник Ницше, изданный в серии «Философское наследие». Именно тогда на какой-то фразе или афоризме великого безумца мне вдруг пришло в голову, что Саракш — не то, чем он кажется. Конечно, это жестокий, кровавый мир, вывернутый наизнанку, но при этом обладающий каким-то мрачным очарованием. Не зря ведь Странник-Экселенц раз за разом нырял в кровавую баню Саракша, ища отдохновения от дел Комкона-2 и прочих Айзеков Бромбергов. Да и комсомолец 22 века Максим Каммерер после гибели своего корабля не впал в прострацию, а, засучив рукава, принялся разбираться с делами его новой родины.
Именно с такого ракурса мне и захотелось посмотреть и на Саракш, и на новых и старых героев. Я знал о так и не написанном мэтрами продолжении трилогии под названием «Белый Ферзь», знал, что кто-то с благословения Бориса Натановича его уже пишет. Но мне и самому категорически не хотелось перебегать кому-то дорогу. Кроме того, мне категорически не нравилась солипсистская идея, заложенная авторами в «Белый Ферзь», о том, что мир Полудня кем-то выдуман. Задуманный роман должен был быть продолжением, фанфиком, сиквелом-приквелом, чем угодно, но в нем должно было быть все по-другому. Меньше Стругацких! — под таким странным лозунгом и писалось продолжение Стругацких же.
Поэтому мне пришла в голову идея, что все приключения Биг-Бага на планете Саракш должны ему присниться, причем присниться в ночь после треволнений того трагического дня, когда погиб Лев Абалкин. Действительно, коли человек спит и видит сон, то мир в этом сне предстает каким-то странным, сдвинутым, искаженным. Если Саракш только выглядит замкнутым миром из-за чудовищной рефракции, то Флакш, где происходят события «Черного Ферзя», — действительно замкнутый на себя мир, а точнее — бутылка Клейна космического масштаба. Ну и так далее.
Однако когда работа началась, в роман стал настойчиво проникать некий персонаж, которому точно не было места во сне, а вернее — горячечном бреду воспаленной совести Максима Каммерера. Я имею в виду Тойво Глумова. Более того, возникла настоятельная необходимость ссылок на события, которым еще только предстояло произойти много лет спустя и которые описаны в повести «Волны гасят ветер».
Но меня до поры это не особенно беспокоило. Мало ли что человеку приснится? Случаются ведь и провидческие сны. Лишь когда рукопись была закончена, прошла пару правок, мне вдруг пришло в голову, что все написанное непротиворечиво ложится совсем в иную концепцию.
Конечно же, это никакой не сон Максима Каммерера! Это сон Тойво Глумова, метагома. Тойво Глумова, ставшего сверхчеловеком и в своем могуществе сотворившем мир Флакша, который населил теми, кого он когда-то знал и любил. Это вселенная сотворенная метагомом то ли для собственного развлечения, то ли для поиска рецепта производства Счастья в космических масштабах, а не на отдельно взятой Земле 22–23 веков.
Странные вещи порой случаются с писателями. Понимаешь, что написал, только тогда, когда вещь отлежится, остынет…
М. Савеличев
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Конечно, за воображаемой прозорливостью подопечного ничего не стояло, разве что собственный страх оказаться разоблаченным, лишиться привычного и, чего скрывать, приятстного положения конфидента милых, глуповатых и близоруких овечек, помеченных тавром чужого стада.
К кому обращается человек воспитанный в трудные минуты жизни, не требующие медикаментозного и уж тем более хирургического вмешательства, а исключительно теплой, расслабляющей обстановки, располагающей к рыданиям в жилетку? К Учителю? К маме? К Наставнику?
Парсифаль с заслуженной гордостью мог смело поставить во главе списка людей, обладающих жилетками с повышенной влаговпитываемостью, личного врача, а точнее — самого себя, ибо как там обстояло дело у остального Человечества за вычетом его тринадцати сомнительных членов он не знал, да и знать не желал.
Иногда он ощущал себя участником странной пьесы, где главные и второстепенные роли распределялись между его подопечными, а зрителями загадочного действа, сами того не подозревая, выступали все граждане Ойкумены.
Римлянам полуденного мира могло показаться, что никакой пьесы нет, и любые выходки тринадцати (а точнее уже одиннадцати) легкомысленно приписывало их врожденной эксцентричности, ибо чего еще ожидать от отпрысков неизвестных родителей, рожденных машиной, сооруженной неведомыми чудовищами?
И только он, Парсифаль, оказывался полноправным участником спектакля, которого внезапно озарила догадка о количестве его действий, сюжетной канве и, даже, о том, кем еще из героев неизвестный автор решил пожертвовать ради пущего драматизма.
Или это не догадка, а случайно услышанный и не ему предназначенный шепот из суфлерской?
— Не хочу своим появлением беспокоить бывшую. Дела у нее, кажется, пошли на лад, — сказал Сердолик. — Устроилась на работу в Институт Внеземных Культур. Наверное, нам следовало раньше развестись…
— Институт Внеземных Культур? — переспросил Парсифаль, почувствовав резкий озноб. И, забывшись, добавил — тихо, задумчиво, как-будто разъясняя самому себе:
— Сектор объектов невыясненного назначения…
— А, ты уже знаешь! Она тебе говорила?
— Да-да, — торопливо подтвердил Парсифаль, — говорила.
Липкий страх не отпускал, вцепившись в кожу мириадами щупалец, втягивая в свое ледяное и беспросветное нутро. Неужели ОНО?! Чего так ждали и чего так опасались? Ради чего пугали друг дружку страшилками на тему «что они могут сделать с Человечеством», а затем, устав и постарев, с не меньшим пылом принялись выдумать успокаивающие байки в стиле: «ну что они могут сделать с Человечеством?!»
Парсифаль ощутил почти неодолимое желание вскочить с жесткой койки, не задумываясь о благопристойном поводе, метнуться к себе и настучать дрожащими пальцами только ему известный номер экстренного канала.
В мутной пелене межмировой связи возникнет знакомая лысина, отсюда похожая на поверхность древней планеты, давно потерявшей атмосферу и беспрепятственно бичуемой космическими лучами, испещрившими ее бока пятнами, похожими на старческие веснушки. И к тому времени немного успокоившийся Парсифаль скажет в эту самую лысину кодовую фразу: «Хорек в курятнике», за которой, может быть, и последуют дальнейшие расспросы и прояснение всех обстоятельств, но, по большому счету, ему, лучшему другу чертовой дюжины, которая так и останется чертовой дюжиной, несмотря на потерю очередного члена, можно будет умыть руки… и готовиться к рутинному профилактическому осмотру очередного подопечного.
Возможно, не выдержав напряжения, он так бы и сделал, но в этот самый момент лежащий на койке имперский офицер открыл глаза и посмотрел на них двоих жутким взглядом изголодавшегося хищника, увидевшего перед собой беспечных жирных куропаток.
Превозмогая себя, Парсифаль растянул уголки губ и как можно участливее поинтересовался:
— Как себя чувствуете? — и обернувшись к Сердолику, нисколько не заботясь о том, что пациент его по всей вероятности прекрасно слышит, добавил:
— Как хочешь, а без смирительной рубашки я его с тобой не оставлю. Не имею права, — на что Сердолик промолчал, а может просто не успел ответить, формулируя убедительный контраргумент в духе Всемирной декларации прав человека, поскольку имперский офицер выпростал из-под одеяла руку, ткнул указательным пальцем в побледневшего Парсифаля и ясным голосом сообщил:
— Я тебе яйца вырву, цирюльник.
— Zum Teufel, er hat alles gehЖrt und verstanden?! — почти взвизгнул Парсифаль, готовый услышать из уст глубоко кондиционированного специалиста по спрямлению чужих исторических путей грубую аборигенскую тарабарщину, а отнюдь не правильный общемировой, причем столь умело пересыпанный оскорбительными обертонами и коннотациями, которые под силу даже не всякому узкому специалисту по абсцентной лексике.
— Не мог же я его оставить das wortlose Rindvieh, — усмехнулся Сердолик. Реакция Парсифаля его позабавила.
А Ферц, сев на койке и отбросив в сторону простыню, мрачно кивнул теперь уже Сердолику:
— И за бессловесную скотину ответишь!
Сердолик смотрел на зататуированное лицо Ферца, делавшее его похожим на Чеширского кота, которому вдруг крупно повезло провести всю свою жизнь не на дереве, вводя нетающей улыбкой в заблуждение наивных девочек, а на фок-рее пиратского корабля самого Барона Субботы, где зловещая ухмылка животного служила прекрасным дополнением к развешанным по мачтам трупам, в том числе и наивных девочек. Впрочем, вопрос о том, насколько можно оставаться наивным, ощущая как грубая пенька затягивается на горле, предоставлял, до поры до времени, широкое поле для домыслов.
Корнеолу вдруг показалось — это он сам, не к месту и не ко времени пробудившись от полуденной дремы, увязался за торопливым кроликом и попал в жуткий мир Страны Чудес, где каждый скрывает собственную суть под вычурной маской, и только он, Сердолик, отчаянно пытается выжить здесь, сохраняя столь дорогое ему лицо.
— Что тебе нужно, Ферц? — спросил Вандерер.
— Зажигатель, — ответил Ферц, и Сердолик нисколько не удивился столь странному желанию имперского офицера, продолжавшего скалить зубы в зловещей ухмылке. Более того, нечто подобное Корнеол и ожидал, ведь провалившись в кроличью нору заведомо оказываешься с мире сумасшествия, и если уж о чем и остается толковать, то лишь о формах подобной деменции и (очень и очень осторожно!) о медикаментозном облегчении симптоматики.
— Какого дьявола, умгекеркехертфлакш?! Зачем он тебе?! — воскликнул Вандерер, искренне изобразив удивление, за которым попытался скрыть страх.
Страх смердел. Так и следует вести себя высшему функционеру поганых тайных служб. Смердеть и портить воздух.
Неожиданно для самого себя Сердолик почувствовал неудержимый приступ хохота. Он закрыл глаза, его плечи затряслись. Наверняка со стороны это похоже на рыдания, рыдания по утраченной сказке о мальчике, который ужасно страшился чудовища, смотрящего на него из зеркала, пока кто-то ему не сказал, что он сам и есть это чудище из зазеркалья… Подобная мысль еще больше рассмешила его. А ведь так оно и есть! Так оно и есть!
— Корнеол! — вскрикнула бывшая жена, но он уже был в порядке, в полном порядке. Если бы не смех. Не дурацкий, раздирающий грудь и глотку смех:
— Это какое-то зазеркалье… чокнутое чаептие… страна чудес… задверье… стояли звери за дверью…
— Корнеол! — бывшая жена с ужасом смотрела на него.
Внезапная, негаданная жалость переполнила его.
Несчастная, одинокая баба. Не женщина, а именно баба, вдруг представшая перед ним без всяческой мишуры нового прекрасного мира, где человек звучит гордо, где каждому даны три ингредиента счастья и подробная алхимическая инструкция Высшей Теории Прививания, указующая как приготовить из них нечто удобоваримое.
Баба, чье изначальное существование опытом миллионов лет эволюции отлилось в чеканную формулировку «Kinder, Kirche, KЭche», в полуденный час обнаружила, что воспитанием Kinder занимается не она, а блестяще подготовленные профессионалы, обученные тому, как любить ребенка и как споспешествовать их талантам, KЭche заменена Линией Доставки и любые попытки приготовить нечто съедобное из сырых продуктов чредой малоаппетитных операций признается если не преступлением против человечности (в широком смысле слова), то уж точно — эксцентричностью, малоприемлемой для мирного обще-жития. Kirche же вообще относилась к мрачным векам средневековья, мракобесия и аутодафе. Хотя некоторые конгрегации еще практиковали (с молчаливого согласия бдительной общественности) некие изощренные интеллектуальные практики, морщась вкушая кислые плоды на парочке подсыхающих ветвей авараамизма, христианство, как религия грешников, однозначно признавалось вредным для человеческого счастья и его же пищеварения.