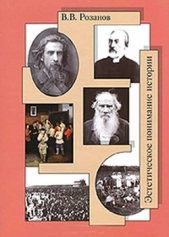Отречение от благоразумья

Отречение от благоразумья читать книгу онлайн
Роман основан на реальных событиях начала XVII века — история революции в королевстве Чешском, приведшая к началу Тридцатилетней войны. Однако, в тексте использовано множество мистических пражских легенд: среди действующих лиц присутствуют раввин Бен-Бецалель и его Голем, магистр Джон Ди (алхимик и личный маг королевы Елизаветы Английской), знаменитый император Рудольф, покровительствовавший оккультистам и так далее. Стилистика — «смешной готический роман», в некотором роде изрядно замаскированная пародия на «ужасы» госпожи Радклифф.
Рассказ ведется от имени секретаря пражской иквизиции, все мистические события крутятся именно вокруг инквизиционного трибунала, пытающегося добросовестно разобраться, что же за чертовщина творится в старой-доброй Праге. Инквизиторы — добрые и справедливые, еретики и маги — плохие. Такова концепция. :-)
Место действия — Прага и Париж. Время — 1611-1613 годы.
В тексте наличествует некоторое количество аллюзий на Адександра Дюма-отца и его «мушкетерские» романы, по крайней мере среди действующих лиц встречаются и молодой кардинал Ришелье, и королева Мария Медичи, и совсем юный Людовик XIII.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Поехали? — обреченно вздохнул Станислав. — Мне нужно быть там, убедиться, что Клай и его мальчики не прикончили больше народу, чем требуется. Старший Клай, — он угадал мой еще не прозвучавший вопрос. — Игнациус.
— Так это переворот? — как можно равнодушнее спросил я, шаря по мешкам и сумкам в поисках неизменно возимой с собой полумаски из черного фетра. Видимо, я переступил некий порог, за которым человек перестает испытывать любые чувства, включая страх и удивление, и просто созерцает происходящее.
— Какой переворот? — в голосе Штекельберга прозвучало такое искреннее возмущение, что вряд ли кто усомнился бы в его верноподданности. — Господь с вами! Разве годиться восставать против законного правителя? Да сотня уважаемых и добропорядочных представителей почтенного крестьянского сословия клятвенно подтвердит, что из лесов примчались разъяренные демоны, ведомые Жницей, и уничтожили короля, погрязшего во грехах!
— Полагаете, гарнизон замка присоединится к этим уверениям? — я наконец отыскал смявшуюся маску.
— Те, кто останутся в живых — несомненно. И их свидетельства будут весьма убедительны, — Станислав поднял голову, глянул на возвышающийся над нами бастион, казавшийся в наступившей ночи непроницаемо-черным, и деловито осведомился: — Вы как, с мной или предпочтете бесследно исчезнуть?
— Еще парочка честных ответов, и моя жизнь в вашем распоряжении, — откликнулся я. — Можете объяснить, какая бешеная собака цапнула фон Клая, после чего он примчался сюда? И как Генрих фон Турн допустил подобное?
О крутом нраве старшего сыночка почтенного семейства Клаев знали все. Смысл его существования определялся двумя понятиями: ненавистью и стремлением нарушать любые запреты. Старый барон, не выдержав очередной эскапады наследника, официально лишил Игнациуса прав на имя, семейные владения и капиталы, передав их младшему, Франциску — более уравновешенному, но склонному к мотовству и легкой жизни. Игнациус в отместку порвал с Римской Церковью, перейдя на сторону протестантов и став в Праге вторым человеком после фон Турна — единственным, кто умел держать своего помощника в стальной узде и направлять его силы в необходимую сторону. Неужели за время моей поездки во Францию произошла смена власти и фон Турн больше не у дел или мертв?
— А он за решеткой, — охотно доложил господин секретарь. — Вторую неделю торчит в Далиборке, дожидаясь разбирательства своего крайне запутанного дела по обвинению в неуважении к законной власти, подстрекательстве к бунту и распространении слухов, порочащих королевское имя. Вдобавок господин кардинал тоже требует свой кусок протестантского мяса. Вот Игнациус и остался без надлежащего присмотра.
— Но нападение на королевский замок... — заикнулся я.
— Как ему намекнули, это лучший способ разрешить большинство тягостных вопросов, — под маской возникла кривоватая язвительная ухмылка, невидимая, но отчетливо различимая в интонациях.
— Понятненько... — ничего я не понимал, но нельзя же это выдавать? Следующий вопрос сам сорвался с языка: — Кто такая Белая Панна, вы недавно ее упомянули? Тоже местное предание?
— Она давно покинула нас, — глухо и чересчур поспешно проговорил пан Штекельберг. — Так в народе зовут княгиню Либуше, основательницу Праги. Ее дух сберегает Чехию от бед, да только непохоже, чтобы она уделяла нам в последнее время хоть капельку внимания...
В дальнем конце проема возник всадник с рогатой звериной головой, по которой пробегали язычки темно-фиолетового пламени, и свирепо махнул рукой, приказывая не торчать на виду, а войти в крепость. Нам ничего не оставалось, как подчиниться.
— Помните, — настойчиво шипел Станислав, пока мы проезжали под тяжелыми арочными сводами, покрытыми многолетней копотью и тающими морозными разводами: — Никаких имен, никаких расспросов. Если Клай хоть что-то заподозрит, нам не жить. Вас прикончат прямо здесь, а с меня в Праге пан Мартиниц шкуру снимет в прямом и переносном смыслах. Молчим, никуда не лезем, подчиняемся приказам.
— Не лязгайте так громко зубами, за лигу слышно, — довольно громко посоветовал я. Штекельберг немедля оскорбился, что и требовалось — пусть лучше злится на меня, чем отчаянно трусит.
Длинный арочный проезд завершился поднятой решеткой, и мы очутились в небольшом внутреннем дворе, наглухо замкнутом крепостными стенами. Посередине стоял возок, а неподалеку от него еле заметно раскачивалась уродливо-гигантская фигура высотой в полтора человеческих роста, замотанная в грязный холщовый балахон. Присутствовавшие во дворе люди и лошади непроизвольно старались держаться от нее подальше, и мы благоразумно последовали их примеру.
КАНЦОНА ЧЕТВЕРТАЯ
Малая кровь большой политики
Наверное, в небесах кто-то иногда дает себе труд приглядывать за моим нелегким существованием. Или я просто родился неоправданно везучим. По всем законам я не должен был выйти из Карлштейна живым, но время прошло и пришло, а я все-таки добрался до Праги. И теперь мы сидим в покоях его высокопреподобия Мюллера, пялимся на стол, где лежит привезенная мною вещь, и не знаем, что сказать. «Мы» — это собственно отец Густав, отче Лабрайд и его светлость делла Мирандола, который задумчиво насвистывает похабную песенку, чего никто не замечает. Я уже трижды пересказал свою историю, и в горле у меня пересохло, но ничего не хочется — ни есть, ни пить, ни даже спать, хотя последние часы пути до столицы я только об этом и мечтал. Именно в таком порядке: поесть, напиться и заснуть. И пожалуйста, пусть, когда я проснусь, в этом безумном мире обнаружатся хоть какие-то начатки здравомыслия.
За окнами старого особняка на Градчанской улице лежит притихшая и настороженная Прага — сердце Чехии, Praha caput regni. Я слышу прерывистый стук этого сердца и понимаю, что он грозит вот-вот оборваться. Предсказанного Конца Времен, конечно, не случится, слишком маловато нынешнее событие в общей картине мира, чтобы отметить начало Конца, однако ничего хорошего тоже не произойдет. Мятежи, голод и войны — первое, что приходит на ум, и это еще не самое страшное.
Куда страшнее будет вырвавшаяся в мир Сила. Сила, что бурлит в корнях и листьях маленькой виноградной плантации, затерянной среди лесистых холмов этой загадочной и притягательной страны. Сила, которая скоро переполнит созревающие гроздья и которую не удержит вся самоуверенность мэтра Филиппа Никса. И я представления не имею, кто сможет встать у нее на пути.
...Снег во внутреннем дворе Карлштейна действительно потемнел от пролитой крови. Впрочем, подозрительные бурые комья вполне могли оказаться банальнейшей грязью — там все перепахали копыта и сапоги. Единственным чистым, пронзительно-белым пятном оставался медленно расширяющийся круг инея вокруг Голема. Выполнившее свою задачу создание пялилось себе под ноги и еле слышно урчало.
— Вы на еврейском языке говорите? — вполголоса поинтересовался Штекельберг. Мы только что отыскали подходящее местечко, чтобы привязать лошадей, и теперь оглядывались по сторонам, решая, куда направиться. Человек, велевший нам пройти в ворота, куда-то делся, все прочие выглядели слишком занятыми, чтобы обращать на нас внимание. В дальнем углу двора копошились уцелевшие и весьма мрачные солдаты замкового гарнизона, под присмотром козлоголовых стаскивавшие в одно место трупы погибших при штурме крепости. Наверное, гадали, что с ними станется по завершению работ и не разделят ли они судьбу своих товарищей.
— На иврите, — поправил я, даже не задумавшись, с чего вдруг пану секретарю понадобилось узнавать глубину моего образования. — С горем пополам и жутким гойским акцентом. Читать с листа получается лучше.
— Можете перевести слово, которое произносится вроде как «эмэт»?
— Истина или жизнь, — удивленно сказал я.
— А если отнять первую букву? — не отставал Станислав. Похоже, для него это имело некое важное значение.
— Тогда получится «мэт», — кажется, я сообразил, к чему он клонит. — Иврит не похож на европейские языки, в нем от одного лишнего звука смысл слова иногда меняется на прямо противоположный. «Мэт» означает «мертвый», «неживой». В целом же сочетание «эмэт» — «мэт» означает мрачноватое высказывание наподобие «Истина ведома только мертвым» либо «Жизнь и смерть слиты воедино».