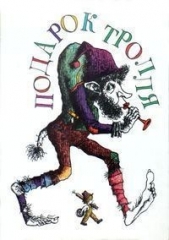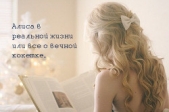Алиса в стране Оплеух

Алиса в стране Оплеух читать книгу онлайн
Графиня Алиса Антоновна Шереметьева с папенькой – графом Антоном Павловичем Шереметьевым – царедворец, эстет, куртуаз – государственный деятель, народный артист театра Петрушки – восседала в золотой беседке на берегу Москвы-реки и наигрывала на арфе – готовилась к экзамену в Институте Благородных Девиц...
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Не хотим работать, а желаем наслаждаться трудами других монстров, диких в своих нарочито исступленных стенаниях, жажде золота.
Хватит, наработались – орлы живут дольше тысячи лет, а мне уже – шестьсот шестьдесят шесть лет стукнуло зеброй по темечку.
И я до сих пор не гражданин Европы, кормилицы и поилицы – бедная, несчастная судьба зверолова.
Зайцев ловил, крыс, лисиц иногда поднимал и скидывал на живодёрню, процент получал от продажи шкур из лисиц, французским конкистадором себя полагал из наполеоновской армии.
Горя не знал, но тоска меня подтачивала даже в кругу балерин, когда танцуют, ногу на столе выше головы поднимают, а голоса, что за голоса у балерин – Миланские кастраты завидуют писклявости балерин.
Однажды, задумался о суровых уроках жизни, о погребальных обрядах индусов и не заметил, как поднял в воздух тщедушного старца с посохом, в рубище, с длинной черноморской бородой – вместо зайца ухватил, надеялся, что старец – не отец Сергий из произведения графа Льва Николаевича Толстого, иначе старец меня бы обличил, наказал, упрекнул в неразборчивости и двоедушии.
Старец громко хулил меня, не боялся высоты, обещал, что, если отпущу его – то не упадёт, не разобьются об острые камни в ущелье, где уж и пингвин, а полетит, потому что силу ему даёт длинная черноморская седая борода и выпитая кровь некрещенных младенцев.
Обманывал ли меня двоедушный старик, или не лгал, но боязно мне стало, испражняюсь налету, призываю грозу, чтобы молния из тучи старца в пенис поразила – поделом охальнику, зачем меня пугает.
Сердце моё трепетное, боязливое, изможденное в любовных схватках с курицами – не выдержит.
«Зайцев травишь, барсуков, тушканчиков, лисиц и волков, а дальше своего клюва не видишь, словно тебе на глаза канализационные люки положили. – Старец меня посохом колотит, перья мои летят, суставы лопаются мыльными пузырьками. – Не птица гордая ты, а – мракобес.
Имя тебе – повелитель Тьмы!
Ты — Пионерский Орлёнок, птенцом себя мнишь, а лет тебе больше, чем самой молодящейся балерине Московского Театра Поднятых Выше Головы Ног!
В праздности жизнь проводишь, а мог бы с пользой, соответствующей твоей должности парящего орла».
«Дедушка, научи меня мудрости Египетской! – я взмолился, даже клюв свернул потешно, чтобы старец развеселился, обожаю людей смешить; до встречи со схимником полагал, что высшее предназначение орла – потешать. – Как я пользу пойму, если мысли только о темноте, об отсталости обезьян – с облаков в меня обезьяны палками и бананами швыряют, китайские летающие обезьяны, разговаривают даже и иероглифы при случае на моей спине пишут раскаленными иглами.
Если пользу пойму, то и до Истины дойду в свинцовых сапогах завоевателя Польши».
«Не зверей, не птиц, не гадов морских когтями подцепляй, мироед!
Убил бы тебя, да болезненно руки отзовутся, а железобетонное сердце моё покроется толстой коркой льда, равнодушия, неполиткорректности.
Истину в поле ищи, хватай когтями, поднимай на – недосягаемую для хулы – высоту, сбрасывай на колья, на пики, на ростки молодого бамбука, а затем налетай коршуном, терзай Истину, представляй себя в роли дракона на именинах Годзиллы.
Сожри Истину – она в тебя тогда переместится, и ты станешь Истиной, узнаешь Цель своей Жизни, осуществишь не только свою сковородочную мелкопоместную мечту, но и мечту сотен поколений Пионерских Орлят». – Старец замолчал, но посохом мне отвешивал оплеухи – снайперски попадал по щекам, волшебник Дурдолио.
Я хотел спросить – как распознАю Истину среди козлят, зайцев, кур и лисиц, но не успел, АХ! досадно, до сих пор себя укоряю, за то, что не успел; на бал придворный успел, а спросить старика волхва – сердце надорвалось моё – не успел.
Старик с дикими воплями гуся мальчика Нильса: «Зеленуха! Зеленуха!! Зеленуха!!!» — вырвался из моих братских объятий, исчез в черном тумане с запахом серы и угля.
Без связи с прошлым, без обрывочных мыслей о нашем общем деле в поисках Истины, без детских улыбок, а улыбка ребёнка – обязательна в нашу эпоху, без улыбки ребёнка политик не взойдёт на пьедестал почёта – исчез старый, раскаленная сковорода ему ложем.
Я искал Истину, скорбел – не отличал Истину от зайчатины, наверно потому, что неграмотный, кружкИ ликбеза не посещал, в избу читальню не заглядывал, балеринам на ягодицах не писал амурные стишки.
На стройку века устроился в печали, рыл Беломорканал – лопатами, кирками, тачками искал Истину, словно меня снегом занесло.
Но голодный, общипанный, презираемый вертухаями и английскими барышнями, чувствовал в то время – в снегах и лишениях – необычайный душевный подъем, потрясающую радость, которую не получил позже в неге, тепле, пирах с балеринами и балеронами в пуховых платочках.
В дырявом бараке – всем ветрам назло — накрывался телогрейкой, под голову – валенок – и сны приходили мне радужные, счастливые, дорогие, с румяными здоровыми купчихами, похожими на летние помидоры.
Подружился с коллегой по кайлу – тонкий юноша с очами эльфа, поэт, романтик, искатель Истины, как и я.
Наши койки стояли рядом, и по ночам – когда Звёзды протягивали лучи к питейным заведениям – я беседовал с товарищем Александром о грядущей Заре всеобъемного Счастья, когда каждому – по потребностям, а от каждого – по возможностям.
Иногда я ловил себя на постыдном – хотелось прижать тонкую натуру Александра к своей груди, приласкать, напитать его нерастраченным теплом Орлиной души.
Много сильных черт у Александра, но одна – непростительная слабость – не любил он мыться, никогда не ходил в рабочую баню; не признавал мыло душистое хозяйственное.
Казнил бы друга за негигиеничность — от которой происходят тиф со вшами, туберкулёз, чахотка, — но каждый раз лучики доброты из очей товарища по лопате останавливали меня, укоряли, говорили, что я буду повинен в смерти трудоголика.
«Не чёрт ли он в обличии копателя Беломорканала?» – я разглядывал Александра, ощупывал по ночам его голову, искал рога; ягодицы потрогать поначалу стеснялся – боязно, не по-орлиному, когда просто так, по-военному моя когтистая лапа да между белых натруженных ягодиц комсомольца – горы возопят от моей непринужденности.
Александр сторонился агитаторов, землю из тачек выкидывал на отшибе от комсомольских вожаков, в столовой жалко и запугано улыбался поварам, а я с досадой подкидывал баланду в миску стыдливого до судорог друга.
По вечерам он выискивал на деревьях виноградных улиток, накрывал каждую тонким слоем соли, проглатывал, жмурился, говорил, что улитки — устрицы, только намного дороже, потому что устрица похожа на вагину, а улитка – символ поцарапанного сейфа с драгоценностями.
Осуждал учетчиц в парандже, говорил, что под паранджой может спрятаться хулитель, враг, который дождется удобного момента и засыплет Беломорканал абрикосовыми косточками, а сверху наложит в три ряда трупы рабочих.
Меня настораживала запуганность Александра, его стремление пройти мимо пьющих и хохочущих друзей по лому и лопате, преступников в прошлом, а в настоящем – хирургов земляного дела.
Александр сломал палец, а мы не догадывались о беде, пожимали ему руки, и — если думать о мужской крепкой дружбе с точки зрения амстердамцев – закрывали ему глаза комьями земли.
По пятницам я гнал Александра в баню еловым веником, а он – подобный пугливой серне, чувствительным сердцем почуявшей нечестность в наших отношениях – убегал в маковые поля, осуждал мои резкие горилльи суждения.
На Беломорканал часто заглядывали гориллы – умытые, причесанные, в блестящих новых итальянских туфлях, сторонники здорового образа жизни с японскими гейшами.
Глаза у горилл наглые – по десять тысяч за глаз гориллы, а глаз человеческий ничто не стоит, даже Человек в Маске не ценится, если он не горилла.
Перед Рождеством я выпил канистру браги, разохотился, разрумянился, ослеп на полтора часа, а, когда прозрел – задумал затащить Александра в баню и помыть – друг моет друга, не в морге же мы, а на производстве Канала.