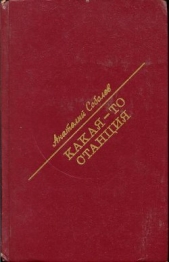СТАНЦИЯ МОРТУИС

СТАНЦИЯ МОРТУИС читать книгу онлайн
В романе "Станция Мортуис" ирония, фантастика и футурология представлены в разных пропорциях. Повествование ведется от лица высокопоставленного советского чиновника скончавшегося незадолго до начала Третьей Мировой Войны, сохранившего потустороннюю возможность наблюдать за происходящим из своего последнего пристанища, и критически осмысливающего и собственное прошлое, и прошлое своей страны. Определенное своеобразие фабуле романа придает то обстоятельство, что чиновник – главный герой произведения – человек чисто грузинского происхождения, что отнюдь не помешало его блестящей карьере. Впрочем, как становится ясно из сюжета, известные аналогии из советской истории (Сталин и т.д.), в данном случае неправомерны. История в этом романе изменяет свой естественный ход. Советский Союз продолжает существовать и воздействовать на судьбу планеты. И все потому, что парни из ОССС (Отдела Слежки за Самим Собой) в августе 91-го года спасли союзное государство от развала. Развитие человечества пошло иным, чем мы это видим сегодня, путем, а к чему все это привело, становится читателю ясно по мере прочтения книги. Жизнь и смерть человеческая, любовь и ностальгия, дружба и светлые идеалы молодости. А кроме того, еще и проблема межцивилизационного контакта: конкурирующий и чуждый человечеству разум поднимается из подземных глубин на поверхность и требует своей доли в управлении планетой…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Широкой, размашистой натуре дона Эскобара всегда претили цветастые и вкрадчивые вступления (как это не похоже на латинянина), и он, свободно раскинувшись в мягком широком кресле, немедля и без околичностей взял быка за рога: "Я слышал ваши люди отказали Байару во въездной визе. Вам не стыдно?". "Байару? - в свою очередь удивился я. - Я не в курсе дела. Неужели, дорогой мой Эскобар, вы всерьез предполагаете, что мне докладывают фамилии всех лиц, собирающихся посетить нашу страну?". "Ну так вмешайтесь. Во имя искусства, ценителем которого вы являетесь, и во имя справедливости, которой вы служите. Неужели фамилия Байар вам ни о чем не говорит?". "Но ведь он, кажется, француз, - лениво отпарировал я. - Почему бы его интересы не защищать французскому послу? С какой стати его судьбой обеспокоились вы?". Дон Эскобар ракетой взвился вверх со своего кресла и моментально плюхнулся обратно. "А вот это-то как раз неважно, - глаза его загорелись от возмущения. - При чем тут его национальность? Байар великий писатель, гордость, если угодно, прогрессивного человечества, и я его хорошо знаю. Зачем вы одариваете предвзято настроенных журналистов такой вкусной пищей? Их ведь хлебом не корми. Любой из них мог бы сейчас обыграть такую, к примеру, тему: Не так давно по вашей стране в составе пуштунской делегации путешествовал мрачный фанатик, талиб, на совести которого гибель многих честных людей, единственная вина которых состояла в том, что они изредка играли в шахматы и вечерами слушали классическую музыку, то есть, по мнению наиболее ретивых фундаменталистов, нарушали законы шариата. Так вот: этот человек удостоился вашей визы, а великий Байар успевший доказать всем действительно зрячим людям, что достоин людского уважения, Байар, из кожи вон лезший на многих форумах в защиту мира и человеческих прав, Байар, не побоявшийся публично влепить пощечину этому старому крокодилу Торресу за то, что его полиция практикует пытки и похищения людей, Байар, вызволивший из тюрем сотни палестинцев и канаков, - оказывается недостоиным этой чести. Я не один раз и по самым различным поводам схлестывался с Байаром, но мне никогда не приходило в голову отказать ему в чашке чая. Неужели вы полагаете, что Эскобар Секунда решился бы занять пост посла в вашей стране, не будь он действительно искренним другом вашего народа и не уважай он основные социалистические принципы? Неужели вы полагаете, что великий Байар в течении всего времени пребывания у вас допустит прямые или косвенные нападки на ваше правительство и ваш строй? Ему, я абсолютно уверен, просто хочется подержать пальцы на пульсе вашей культурной жизни, повидаться со старыми знакомыми, может быть, взглянуть свежим взглядом на ваши новые города. Неужели вы не понимаете, что отказывать Байару в визе неприлично, недальновидно и недостойно цивилизованных людей? Молю вас, вмешайтесь, иначе будет поздно, вы нанесете смертельную обиду и ему, и мне, и Франции. Если не хотите поступать порядочно, - поступите хотя бы умно". "Но позвольте, - возразил я, - все последние заявления Байара, включая его последнюю книгу, - сплошная низкопробная антисоветчина. Мой дорогой господин посол, неужели вы водите дружбу с людьми, поливающими вас грязью? Вы ожидаете от нашего руководства особого отношения к Байару на том основании, что у него есть определенные заслуги перед антивоенным движением, и еще на том, что он популярный на Западе литератор. Но ведь это, согласитесь, вчерашний день. Пока он держался в рамках, у него не бывало трудностей с въездом в нашу страну. Если мне не изменяет память, он посещал ее раза три или четыре. И вообще, бывшие друзья хуже врагов, эту простенькую истину вы не в силах отрицать. Не сочтите за высокомерие, но я, право, не уверен, что должен вмешиваться в работу компетентных органов нашего государства ради столь сомнительного доброжелателя". Дон Эскобар взглянул на меня затравленно и свирепо. "Но я, господин вице-премьер, в данный момент обращаюсь к вам не как к политику, а как к честному человеку - сделайте что-нибудь для великого писателя, которому, как любому из нас, иной раз приходилось заблуждаться, но чье имя останется прославленным в веках. Байар... Да это же Байар!". В его возгласе было столько страсти и наивной веры в какую-то исконную справедливость, что мне очень захотелось напрочь забыть о разделявшей нас государственной границе. "Ну ладно, дон Эскобар, я посмотрю. И если что-то возможно будет изменить, то поставлю вас в известность первым. Вы же тоже прекрасно понимаете, что обещаю вам это как доброму другу, а не как полномочному представителю испанского королевства, входящего в Западноевропейский Союз. И не надо примешивать сюда советско-афганские отношения. Не стоит, право. Разве ваша страна, да и вообще, любая страна Европы, руководствуется в своих практических действиях лишь чистой христианской моралью? А ведь мы еще и атеисты. Все происходящее на Ближнем и Среднем Востоке входит в сферу наших интересов, и мы, конечно, не можем их не защищать. Кстати говоря, исламских фундаменталистов в Пуштунистане подкармливают оружием и деньгами некоторые ваши идейные друзья, а вовсе не безбожники-коммунисты из Москвы". "Я мог бы воспринять ваши слова, как оскорбление, - возмутился дон Эскобар, - хищников, за определенную мзду вкладывающих оружие в руки злейших врагов прав человека, не следует называть моими друзьями. Коммерсантов, и в том числе испанских, делающих грязный бизнес на пуштунских теократах, я недолюбливаю не меньше вашего. Кстати, Байар придерживается по этому вопросу совершенно аналогичного мнения. Но тут мне как раз все предельно ясно. Кровожадные вампиры в цивильном обличье обогощаются на крови и страданиях людей, - это же старо до обыденности, чего же еще можно ждать от этих исчадий общества потребления, но вы... Почему вы? Что у вас общего с агрессивным исламом? Я имею в виду вашу идеологию, конечно. Не спорю, мусульманское население составляет треть населения вашей страны, и даже если какая-то его часть и не относит себя к последователям Корана, я все же могу представить себе связанные с этим потенциальные проблемы. Аллах велик - не так ли? Но ведь вы не требуете, кажется, от ваших среднеазиатских коммунистов, чтобы они во имя сохранения советского стратегического влияния в районе Персидского залива тщательно соблюдали традиции закята или еженощно утыкались лбами в каракумские пески во время богослужений? Это выглядело бы довольно странно, не правда ли? Ох уж эти стратегические интересы! Скажите, вас никогда не охватывает ощущение того, что все мы полным ходом катимся к пропасти только потому, что больные нервы человечества некому лечить? И еще потому, что в отношениях между государствами, как и в средние века, господствует не мораль, а сила, а все эти "стратегические интересы", которые мы так рьяно защищаем, всего лишь условности, - сложные для понимания, но условности, - то есть понятия явно противоречащие действительным стремлениям народов, и все только и думают о том, как лучше надуть друг друга". Я почувствовал, что беседа потекла в русле общеполитической дискуссии и вздохнул свободнее: "Что ж, дон Эскобар, иногда меня и охватывает похожее ощущение, но кто же виноват в том?". "Кто виноват, спрашиваете? Виноватых нет и виновны все. Вряд ли, однако, ваш кабинет удобное место для развития столь банальной мысли. Ваше время стоит дорого, а покончить с этой темой за полчаса невозможно. Лаконичными могут быть заготовленные краснобаями впрок экспромты и афоризмы, кропотливый же поиск истины отнимает месяцы и годы". "Ну что ж, годами мы и в самом деле не располагаем, но, сказать по правде, я не спешу и готов с интересом вас послушать. Просветите меня. Ведь не всякий удостаивается чести обменяться мнениями с доном Эскобаром Секундой, и да будет ему известно, что в нашей тоталитарной стране он не испытает недостатка во внимательных слушателях". Я уверен, что он должным образом оценил мой доброжелательный сарказм, глаза его игриво блеснули, тонкие губы искривились в легкой и почти незаметной улыбке. Но обмена мнениями, увы, не получилось. Господин посол понял меня слишком уж буквально и проговорил без остановки битый час. На мою долю выпало слушать, поддакивать, и, по мере возможности, не терять нить его рассуждений. Надо признать, рассказчик из него был великолепный. Прошла всего пара минут с начала его монолога, а его грузное тело уже выпорхнуло из кресла и заметалось по комнате подобно резвому бильярдному шару. Он явно почувствовал себя полноправным хозяином кабинета. В свою страстную речь он попытался вместить все ключевые проблемы человечества. О чем только он не говорил: и о вероломстве политиканов, и о том, что не хотел бы выдавать любимую внучку замуж за капиталиста, и о том, что бедным не до культуры, а богатым не до бедных, и о том, что количество зла в мире - величина постоянная, и складывается она из малюсеньких частиц зла нашедших пристанище в наших сердцах, это их диалектическая сумма проявляет себя то в виде террора, то в форме бомбежек, то в преднамеренном повышении цен на продукты питания, - но начало зла в человеческой душе. Он обличал все пороки общества. Насколько мне удалось его понять, он широко пользовался характерной для социального фрейдизма аргументацией, но излагал все эти старые как мир доводы в настолько совершенной форме и такими, идущими из глубины сердца, словами, что поневоле хотелось признать его личное право на идейный приоритет, отводя остальным претендентам незавидную роль жалких эпигонов. Давно не приходилось мне слвшать столь яркой пропагандистской лекции, да и то верно, что я попал под пресс одного из лучших ораторов Европы. Ах, каким был бы он в Грузии тамадой! Он с огромной силой внутренней убежденности доказывал, что фашизм, в основе своей, не социальное, а индивидуальное явление; что ростки его гнездятся в душе каждого человека; что неумение и даже нежелание обуздать тайные, темные, агрессивные инстинкты, которыми только и гордимся мы в действительности, - ибо ошибочно полагаем будто они и придают нам истинную ценность, - постоянно подкармливают наше фашистское подсознание. По этой причине он счел нужным процитировать Брехта: "Все еще плодоносит чрево породившее Это", и с видимой грустью добавил: "Это невозможно искоренить вконец. И все же - каким бы сатанинским злом не был фашизм, есть и худшее зло: порождение не души, а общественного самодовольства. И зло это именуется Конформизмом, и оно хуже фашизма хотя-бы оттого, что на свете, к счастью есть антифашисты, и их немало, но антиконформистов нет и не может быть в природе. Конформизм - крест человечества". "Все мы: и вы, и я, и все остальные - конформисты, и останемся таковыми навсегда", - торжественно заключил он и гордо замолчал. Я вздрогнул. На минуту мне показалось, что я помолодел лет на сорок. Гром и молния, разве не о том же толковал Писатель перед самой своей смертью? Писателя давно уж нет в живых, - с течением лет выяснилось, что не так уж он и велик, каким казался, хотя и забыть о нем полностью не забыли, - скоро и мне предстоит свидание с ним в мире теней, а я выслушиваю от человека, которому Писатель в отцы годился бы все те же слова. О боже, Секунда, пожалуй, вообразил будто открыл нечто новое. Да наверное еще Аристотель думал о том же самом. Неужели все мы живем в совершенно неизменяющемся мире? Мысль эта отозвалась в моем мозгу пронзительной и болезненной нотой, и я на миг потерял самообладание: "Но почему же конформизм? Что вы все тянетесь к этому слову, как мотыльки к свету? Мало что-ли других проблем? Тем более что эту, как вы сами утверждаете, людям никогда не решить. Да и что можно сделать, дон Эскобар, чтобы вы назвали человека просто человеком, не презирая его в душе хотя бы и против своей воли. Как добиться того, чтобы вы не окрестили его эгоистом? Чем заслужить такую честь? Ну, скажем, что должен я совершить для того, чтобы заслужить вашу благосклонность? Впустить Байара? Снизить цены на хлеб? Благословить книжные костры, памятуя о том, что лучшее враг хорошего? Подать в отставку? Что изменится? Есть же пределы возможного". Я сорвался, и срыв этот был недостоин заместителя главы правительства, но за последние десятилетия меня принуждали выслушивать и принимать всерьез столько лощеных фраз, что я не смог сдержаться, - уж лучше бы мы закончили на Байаре! "Ну зачем же проситься в отставку? - возразил дон Эскобар. - Возьмите-ка лучше пример с меня. Будучи конформистом по образованию и антиконформистом по призванию, я не только не подаю в отставку, но и принимаю живейшее участие в политической жизни, хотя мне сам бог велел писать книги, рассчитанные на узкий круг элитарных читателей: искусство ради искусства, полет чистой фантазии, поток сознания, и все в таком же духе. Критику левых интеллигентов я как-нибудь пережил бы, но не в этом дело. Нельзя замыкаться в себе. Зачем же подавать в отставку (он, казалось, уговаривал меня не делать рокового шага, как будто я уже решился подать в инстанцию заявление об уходе по собственному желанию), лучше употребите данную вам богом и вашим правительством власть на добрые дела. Вы же человек информированный, вы же видите, не можете не видеть, что земля напропалую несется к термоядерной катастрофе. Сделайте хоть что-нибудь, господин Заместитель Премьера! Иногда мужество состоит в том, чтобы решиться на уступки. Иначе все мы, вместе с нашими концепциями благоустройства планеты, полетим в тартарары. От американцев нечего ждать, от европейцев тоже. Они думают, что большой войны никогда не будет. Слепые безумцы! Увы, мои соотечественники в подавляющем большинстве - слепые безумцы. В противном случае они что-то предприняли бы для изменения политики своих правительств. Устроили бы всеобщего забастовку. Разнесли бы в пух и прах военные заводы. Но они погрязли в мыслях о хлебе с маслом, они разобщены и глупо радуются этому, среди них почти нет героев, тех кто стоит выше страха - высмеивают, а смех такое дело... Когда эти обыватели поймут, что общий удел не минует и их, когда их носом ткнут в грязную лужу из крови напополам с дерьмом, то будет уже поздно. Но вы, коммунисты, вы кичащиеся своей программой социального оптимизма для всего человечества, неужели вы не видите всю пагубность бездействия? Или вы тоже зажрались? Тогда нечего обманывать людей. Вам не нравится, когда вас называют конформистом? Понимаю, вас тошнит от этого слова, но ваши мучения напрасны, - как я сказал, не конформистом быть невозможно, ибо все мы вынуждены заботиться об удовлетворении своих потребностей, но вас тем не менее тошнит. Я вовсе не осуждаю вас за это: вы желали бы изгнать владеющее вами чувство дискомфорта. Что ж, вполне обоснованное желание. Но для этого надо что-то сделать, дорогой мой, похлопотать, пошевелить мизинцем, пожертвовать напускным авторитетом. Я пишу книги и бегаю из посольства в посольство, а что делаете вы? Сидите, извините за прямоту, в кабинете, подписываете бумажки, в которых жизни не больше, чем, например, в номере моего автомобиля, и чрезвычайно довольны собою. Извините уж, что я вас так... А ведь куда мне до вас, хоть я и писатель. Вы принадлежите к тем, кто формирует государственный курс, я же всего только обычный смертный. Перо и бумага недостаточные рычаги власти в нашем мире. Сбросьте с себя привычные оковы, ощутите себя Маратом или Дантоном, Марксом наконец! Вот уж кого нельзя было устрашить видом гильотины. Или Сталиным! Не подумайте только, будто я настраиваю вас на переворот, упаси господь. Просто я хочу, чтобы к вам вернулась ваша решимость, та решимость, которая наверняка владела вами, когда вы были помоложе... Напишите книгу и издайте ее, устройте презентацию, пресс-конференцию, пригласите журналистов, раздавайте интервью налево и направо. Ведите себя как ответственный, но свободный человек. Загляните к себе в душу, почаще советуйтесь с вашей совестью. Подумайте о тех несчастных, о детях, что обречены погибнуть в будущей мясорубке. Постарайтесь остановить ЭТО...". Так он говорил, взволнованно и сбивчиво, и даже малой доли его слов было достаточно для того, чтобы надолго испортить наши отношения и, вероятно, я был вправе отреагировать на его выступление более чем резко, - еще бы, посол иностранного государства ведет пропагандистскую обработку правительственного чиновника высокого ранга совершенно недипломатическими средствами, можно даже сказать: вербует его, но я почему-то медлил возражать. Подумалось о том, что мне ни много, ни мало шестьдесят девять лет; о том, что обстановка в мире дрянная и продолжает ухудшаться; что путей выхода из тупика не видно; что в свое время я не остановился перед тем, чтобы ограбить человека, воплощавшего собой куда меньшее зло, чем какой-нибудь милитарист у власти; о том, какая сволочная штука жизнь и как жаль, что финиш близок; о том, что я так и не сохранил единственного человека с которым дружил, и проиграл единственную женщину которую любил; о том, что февраль в этом году выдался слишком тусклый, - и мне расхотелось разыгрывать из себя высокопоставленного чиновника, возмущенного бестактным поведением официального представителя иностранной и не очень дружественной нам державы. Признаться, я растерялся. Кажется, дон Эскобар тоже внезапно осознал, что хватил лишку. Он как-то сразу замолк и сник, лице его выражало нечто похожее на смущение. Сказать бы ему сейчас сухо и строго: "Боюсь, что в течении некоторого времени наши страны будут вынуждены поддерживать отношения на уровне поверенных в делах", но ничего такого я, конечно, не сказал, только поднялся с кресла и подошел к окну. Густой снег валил хлопьями, и в ту минуту больше всего на свете мне захотелось слепить снежок и изо всех сил запустить его высоко в небо. Но маловато у меня их оставалось - этих сил! Бедный дон Эскобар как-то весь съежился, втянулся в кресло (пока я смотрел в окно он успел опуститься в него), стал похож на... на плюшевого мишку, и мне стало его жаль. Желая разрядить обстановку я, без всякой связи с недавними тирадами господина посла, вспомнил о Байаре: "Я не забыл о причине, которая привела вас сегодня ко мне, господин посол. Я свяжусь с руководством МИД и, если только дело не серьезнее, чем мне это сейчас представляется, то, пожалуй, можно будет надеяться на его благополучный исход". Мгновенно оживший дон Эскобар с готовностью подхватил конец брошенного мною каната. "Буду очень благодарен вам за содействие. Желаю вам доброго здоровья. Сегодня я отнял у вас немало времени, наговорил лишнего, постарайтесь простить мне мою навязчивость. До свидания", - извиняющимся тоном проговорил он. "До свидания. Заходите почаще, дорогой сеньор Эскобар. Я всегда искренне рад видеть вас", - улыбнулся я ему на прощание. Мы пожали друг другу руки и я проводил его до дверей кабинета.