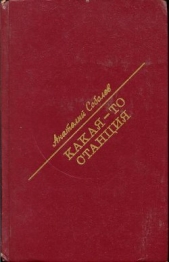СТАНЦИЯ МОРТУИС

СТАНЦИЯ МОРТУИС читать книгу онлайн
В романе "Станция Мортуис" ирония, фантастика и футурология представлены в разных пропорциях. Повествование ведется от лица высокопоставленного советского чиновника скончавшегося незадолго до начала Третьей Мировой Войны, сохранившего потустороннюю возможность наблюдать за происходящим из своего последнего пристанища, и критически осмысливающего и собственное прошлое, и прошлое своей страны. Определенное своеобразие фабуле романа придает то обстоятельство, что чиновник – главный герой произведения – человек чисто грузинского происхождения, что отнюдь не помешало его блестящей карьере. Впрочем, как становится ясно из сюжета, известные аналогии из советской истории (Сталин и т.д.), в данном случае неправомерны. История в этом романе изменяет свой естественный ход. Советский Союз продолжает существовать и воздействовать на судьбу планеты. И все потому, что парни из ОССС (Отдела Слежки за Самим Собой) в августе 91-го года спасли союзное государство от развала. Развитие человечества пошло иным, чем мы это видим сегодня, путем, а к чему все это привело, становится читателю ясно по мере прочтения книги. Жизнь и смерть человеческая, любовь и ностальгия, дружба и светлые идеалы молодости. А кроме того, еще и проблема межцивилизационного контакта: конкурирующий и чуждый человечеству разум поднимается из подземных глубин на поверхность и требует своей доли в управлении планетой…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В комнате царил беспорядок, было заметно, что здесь не убирали по крайней мере в течении нескольких последних дней. Покрывало на постели было смято, на полу то тут, то там виднелись серые холмики сигаретного пепла, письменный стол был застлан усыпанными хлебными крошками старыми газетами, журнальный столик весь покрылся довольно свежими темно-бурыми пятнами, очень смахивавшими на винные, и я подумал, что в дни отсутствия своих близких, старик прикладывался не только к шотландскому виски. На столике красовался большой пузатый фужер, из таких очень удобно пить шампанское или лимонад, а рядом стояла известная всему миру граненная бутыль. Писатель тут-же схватил бутылку и плеснул себе в фужер немного горячительной жидкости. Потом взглянул на меня, обворожительно улыбнулся и сказал: "Ну что ж, предлагаю тост за твой долгожданный успех. Времечко пришло. Кто знает, может я пью сегодня последний раз в жизни, так пусть же мои тосты будут посвящены тебе - рыцарю политических турниров, человеку, которому я искренне и всецело доверяю. Или ты предпочел бы выпить за мое последнее разочарование?". Осушив фужер до дна и беззвучно посмеиваясь, он добавил: "Не удивляйся. Разве тебе не приходилось пьянеть до умопомрачения, и всегда ли молодость была тому виной. Просто настроение... Садись, да садись же вот в это кресло. Думаешь, сейчас я буду тебя спаивать? Ничуть. Сегодня ты должен оставаться трезвым, алкоголь не для тебя. Нет, не дам тебе ни капли, ни единой капли, да садись же". Комическая сторона ситуации брала верх, мое первоначальное смущение рассеялось, и я, пытаясь сохранить серьезный вид, осторожно расположился в ветхом мягком кресле.
Писатель, как видно весьма довольный моим визитом, промурлыкав что-то очень классическое, вновь плеснул виски себе в фужер и упал в соседнее кресло. С минуту он молчал, собираясь, видимо, с мыслями, а затем обратился ко мне почти трезвым, ровным голосом, как бы продолжая прерванный минувшим вечером интересный разговор:
- Поздравляю тебя еще раз, избранник народа, надеюсь ты не давал своим избирателям слишком опрометчивых обещаний. Помни, оказывать легкие услуги легко и приятно, но дельные обещания всегда трудно исполнять, кстати, ты никогда не задумывался над тем, почему их так избегают давать так называемые порядочные люди? А не в последнюю очередь из страха быть, так сказать, унесенными в глубокое море во время отлива - не спасет даже умение плавать. Брать на себя обязательства и выполнять их - это, друг мой, редкий удел смелых и чистых людей, многих ли можем мы назвать такими и можем ли осуждать остальных - вот в чем вопрос. А приходилось ли тебе видеть собственными глазами настоящий подвиг, встречаться с живыми героями? Обычные, кстати, на первый взгляд люди. Я-то и видел, и встречался, старина: на войне - как на войне. Только вот в дни мира им, героям ратных буден, приходилось куда труднее. А беспокоила ли тебя когда-нибудь совесть, старина? Пока не мучала, нет?Впрочем, ты еще так молод, ты только гадаешь, что ж это такое - совесть... Иногда мне кажется, что человек должен жить лет двадцать пять-тридцать, не больше - ведь чем ближе к смерти, тем память беспощадней, и нет печальней ощущения нежели ощущение приближения собственного конца. Неминуемого приближения. А в двадцать думаешь о другом, убиваешь муху - хлоп! - и веришь, что убил муху, а лет через двадцать выясняется что ты прикончил слона. Понимаешь ли ты, юный друг мой, что это за великое слово - репутация, и чем оно, словечко это попахивает? Создаешь ее, создаешь трудом своим, целой жизнью своей, и, вроде, делаешь все как полагается, но наступает мгновение, и тебе становится нестерпимо ясно, что одна ложка дегтя, под влиянием обстоятельств или просто по глупости когда-то опущенная в бочку меда, лишает тебя сна и покоя. Вот что такое совесть. Не забывай, я прожил долгую жизнь, так и не успев, к сожалению, стать самодуром, хотя соблазн такой возникал, всякое бывало. Я тоже был молодым, о боже, как я был молод! Если б ты знал - не понимал, а именно знал, но это невозможно, для этого ты должен дожить до моих седин, - если б только знал как горько сознавать, что все уже в прошлом и вернуть ничего нельзя. И как трудно уходить, если любишь жизнь больше, чем она того стоит. Все, все - в далеком невозвратном прошлом, - и любовь, и дружба, все. И стихи, повести, романы тоже. Галактион и Эльза Брайт. Даже не верится, что совсем скоро ничего уже не будет, полная тьма, а подвести итоги нет сил, да и как прикажешь стать беспристрастным судьей себе самому? - Он поднял фужер и отхлебнул виски на пару секунду прервал свой горячий монолог. - Может и переживет меня ненадолго какое-нибудь из моих сочинений, но ведь я не Данте, не Шекспир, не Толстой, не Кафка, я не переоцениваю себя. А ведь и то, что мной достигнуто, достигнуто ценой ненавистных компромиссов. Совесть - это, кроме всего, еще и болезнь сентиментальных стариков, дружище. Ты, наверное, слышал, что в сорок первом я, как и многие, добровольцем пошел на фронт. Меня разубеждали, не хотели брать, я ведь был тогда видной фигурой писательского мирка, руководителем нашей организации, но я настоял на своем, и они в конце концов уступили... А как по-твоему, почему я записался в добровольцы? Я ведь легко мог избежать фронта, а жена моя чуть с ума не сошла, когда я объявил ей о своем решении. Она и сейчас не знает, почему так случилось. Правда не знает. А меня погнала под пули совесть. Под пули может гнать сознание того, что жизнь сотворила над тобой нечто постыдное с твоего согласия. Поэтому под добровольцами я разумею сейчас не молодцов рвавшихся бить врага на передовую, таких тоже было немало, но мои мотивы были слишком уж иными, и я не хотел бы прятаться за их спины. Ты спросишь: как могла меня погнать под пули совесть, если угрызения ее - болезнь старческая? Верно, мне было тогда чуть больше тридцати, приблизительно столько, сколько тебе сейчас. Но я так тебе отвечу, старина: пока ты молод и надеешься на лучшее, то думаешь будто действием своим, - каким-то героическим самопожертвованием, либо добрыми делами, - никогда не поздно искупить вину или исправить ошибку. Но стоит постареть, ощутить вот здесь (он прикоснулся ладонью к темени) тяжкий груз, груз памяти, лет, назови как хочешь, начинаешь понимать - искупить ничего нельзя. Что толку в твоем самопожертвовании, если совершал поступки о которых никогда никому не расскажешь, потому что стыдно? Разве то, что я когда-то в поисках смерти подставлял голову под немецкие пули, дает мне возможность быть откровенным сейчас, много лет спустя, хотя бы перед тобой, моим, да будет так дозволено выразиться, доверенным лицом? В том то и дело, что такой возможности у меня нет. И поневоле превращаешься в дряхлого неврастеника. Тебе, мой юный друг, посчастливилось родиться позже, ну а мне, в свои тридцать, пришлось перевидеть, пережить и испытать столько, сколько тебе и твоим друзьям и не снилось. Только не надо завидовать. Не стоит того, лучше уж я позавидую вам. Широкая общественность ничего не знает... Плевать мне на широкую общественность, что ей до моей жизни, да и не знает она потому, что и знать ничего не хочет, а узнает приголубит и приласкает, так за что же ее уважать? Эх, товарищ депутат, так хотелось выговориться за все эти годы, а женщины все понимают по-своему, или совсем ничего не понимают. Ну что тут жаловаться, жаловаться поздно. А может я просто чудак. Может я все принимаю излишне близко к сердцу? Но как же иначе, ведь я писатель. Подумать только, эти хитрецы ловко купили меня, простофилю, ишь... Председатель грузинского Союза. Быть Председателем Союза очень почетно, но ты ведь не представляешь какая это была работа... Да и в Москве... Отчего я так не любил Леопольда Авербаха, всех этих пролетлеваков... И тебе не понять, каково было нам перебираться со своим скарбом сюда, в этот самый петушковый дом. Дом о двух этажах. Просторный дом. Вообще-то не придерешься. Председатель Союза должен жить в просторном доме Я не могу и не хочу пересказывать тебе, что это была за работа, мне неудобно, ты ведь не широкая общественность, не приголубишь, хотя и многим мне обязан, детали теперь во всей широте и долготе помню я один, и память эта исчезнет вместе со мной, но, боже, что за деятельность... Постоянно выдавать белое за черное, а черное за белое. Расхваливать бездарей, которым впору было держать в руках топор вместо пера, и зажимать всех остальных. Вести двойную жизнь и находиться в постоянном разладе с самим собой, во имя непререкаемого "так надо". А еще тогда говорили: "линия партии"... И так почти два года, целых два года. Я уже задыхался, я не мог. Не мог больше работать на этой должности, изолгался весь... В отличие от тебя я-то не создан для политики. И... нет, я не хотел переселяться сюда, в этот дом. И жена не хотела, она вполне порядочная женщина". Но страх великая сила, куда величественее голода. Я испугался, что, отказавшись, навлеку на себя участь бывшего хозяина этого дома, а жена моя разделит судьбу его бывшей хозяйки. А знаешь ли ты, какова была их участь? Слышал, быть может. Он ведь был всем в Грузии известным национал-уклонистом. Его расстреляли здесь же, за городом, сразу после ареста, а жена и ребенок сдохли от... от чего угодно на этапе, так и не доехав до места назначения. Не знаю наверняка, да и откуда мне знать точно, но так рассказывали многие. Это называлось политеческим разгромом оппозиции. И вправду, чем не политический разгром? Кроме всего прочего, за этим деятелем от оппозиции действительно водились кое-какие грешки. Воздух тогда попахивал гарью, а национал-уклонизм в тех условиях это, брат, тебе не кукиш в кармане и не безобидные вирши. Нет, они не были похожи ни на Швейков, ни на голуборожцев. И мы съехали со старой квартиры. Одной рукой я пожимал руки тем, кто поздравлял меня с высоким назначением и новосельем, вот так же, как и я сегодня тебя поздравил, а другой - другой молотил по стене, бессильным кулаком по старой кирпичной стене, так не хотелось сюда переезжать. А теперь ничего, привык, живу. Сколько лет позади, целая историческая эпоха, война, победа, двадцатый съезд, амнистия, - а ведь прошлое привязано к ноге словно гиря, черт ее дери! Вселился же я в этот чертов дом. Думал, противиться не имеет смысла, не так поймут, то есть поймут правильно, и загремит тогда бывший герой испанской войны. И жену жалко было молодую. Ну, как долго мог товарищ Сталин благосклонно относиться к памяти моего отца, вождь народов был человеком крутых и жестких решений. Ну ладно я, черт со мной, но допустить, чтобы она замерзала где-то в казахстанских степях или на зауральских просторах? Да никогда в жизни. Ну и пошла та самая работа с пишущей братией: жирей на государственных харчах и зарабатывай свою долю презрения и ненависти. Глазам своим не верил - неужели я заслужил эту судьбу? А ведь за плечами у меня Испания, война с фашистами, бомбежки, Гвадалахара, Теруэль, и какие люди, какие люди... То, о чем ты читал у Эренбурга или у меня, для тебя всего лишь более-менее достоверная информация о прошлом, для меня же, товарищ депутат, моя собственная жизнь. И ведь главное, выхода-то никакого не видно. В отставку нельзя. Отставка в такое время у меня одна могла быть - в Сибирь. Я занимал слишком видное положение для того, чтобы в те человеколюбивые времена рассчитывать на снисхождение. И, самое ужасное, писать ничего не могу, чувствую: все что ни напишу, любая строчка, да что там строчка, буковка любая моя, будет ложью, профанацией. Хочешь верь мне, хочешь не верь. Сколько лет прошло, а как вспоминаю про это - мороз по коже подирает. Срок давности на воспоминания не распространяется, не рассчитывай, тем паче если ты писатель, или, как говаривали тогда старшие товарищи - инженер человеческих душ. Ежели претендуешь на то, что сам себе свой высший суд, где уж тут рассчитывать на юридическую казуистику. И не знаю, что со мной было бы, кабы не война. Кощунственно это звучит, знаю, но война, сынок, была для меня избавлением. Война стала для меня лекарством, средством бежать от ставшего мне ненавистным мира. И я не упустил случая сбежать, дезертировать с мира на войну. Есть такая крылатая империалистическая фраза, ее нередко цитируют в прессе, когда испытывают нужду лишний раз подчеркнуть авантюристический характер американской геополитики, произнес ее сгоряча бывший государственный секретарь и генерал Александр Хейг, - сгоряча не как военный, а как дипломат, ибо дипломату язык дан для того, чтобы скрывать свои мысли, - и звучит она так, эта фраза: "Есть вещи поважнее мира". Дикая мысль для нашей эпохи, и звучит она дико, но что поделаешь, если даже дичайшая эта мысль иной раз может оказаться правдивой. Я все знаю, все испытал на себе, я видел войну, - это гнусная пакость, это окопные нечистоты с кровью напополам, это валяющиеся в непролазной грязи оторванные конечности обычных людей. Я знаю, мне ли не знать, что война - кошмар. Но когда я говорю, что ужасная мысль эта содержит в себе зерно истины, я не думаю ни о героических освободительных войнах, ни о том, что действительно можно представить себе вещи пострашнее, чем война, например, сплошной полпотовский концлагерь на матушке земле ценой вечного мира. Ведь даже термоядерная война, наверное, когда-нибудь закончится, а правление вампиров присвоивших себе право на геноцид, может продолжаться бесконечно долго, и я не уверен, что такая жизнь имеет больше смысла, чем всеобщая гибель. Будем, однако, надеяться, что народы никогда не будут поставлены перед этим бесчеловечным, жутким выбором... Но, повторяю, я не об этом. Я о себе. Я о том, что подвернувшаяся возможность сбежать на войну из мира, в котором мои труды были, вроде бы, достойно вознаграждены, казалась мне избавлением. Когда через несколько дней после начала войны я заявил жене, что собираюсь на фронт, она, бедняжка, едва не лишилась сознания. Еще бы, променять благоустроенный быт и радости отцовства на окопные страдания, такое могла понять разве что жена декабриста. А супруга моя, несмотря на все ее благие качества, была и остается самым обычным, добрым, ласковым, но не очень далекий созданием. Впрочем, должен признаться, что в окопах как таковых сидеть мне не довелось. Конечно, на фронте я попадал во всяческие переделки, но все-таки прежде всего в качестве военного корреспондента, причем высоко ценимого. Так уж получилось, что командование как могло оберегало меня от пуль и снарядов, и с этим я ничего не мог поделать. Вначале комиссар которому я вручил прошение послать меня на фронт, помню, очень на меня озлился и, в конце концов, ответил, что не может своей властью решить этот вопрос. Похоже, он сразу подумал, что я блефую. Но мое решение было твердым и я сказал ему, что взять меня ему придется. Я пошел на поклон к самому главному тогда в республике начальнику по этой части, и со всей убедительностью объяснил ему, что ненавижу фашизм, обладаю боевым опытом еще с испанских времен, и если мне сейчас не позволят бить фрицев с оружием в руках с близкого расстояния, то я немедленно подаю в отставку. Теперь я уже мог пригрозить отставкой, вряд ли в сорок первом меня сослали бы в края отдаленные всего лишь за избыток патриотизма, это выглядело бы слишком неестественно. Удивительное было время, даже жене, ближайшему человеку, я объяснил свое решение теми же словами, что и военкому, боялся, как бы она ненароком где-нибудь не проговорилась. Помню, я говорил ей, что, дескать, в такое время человек с боевым опытом обязан держать в руках винтовку, если хочет и дальше считать себя честным человеком и мужчиной, что от борьбы с нацизмом не пристало уклоняться автору "Европейских туманов", что если я останусь дома, она перестанет меня уважать, и все прочее в таком же духе. Она ничего не желала понимать, но я был непреклонен. После Победы, уже по возвращении домой, я старался поменьше болтать о событиях четырехлетней давности, все больше рассказывал ей о моем фронтовом житье-бытье, и, похоже, вскоре она действительно уверовала в то, что делит ложе с великим писателем бесстрашно променявшим спокойный тыл на боевые награды, а за четыре смертных года на мою долю, несмотря на исключительное в своем роде положение, выпало не так уж мало орденов и медалей. Мне не хотелось лишать ее иллюзий, и я так ничего ей не рассказал об истинных причинах моего бегства. И кроме того, в моих аргументах был резон, мне не пришлось долго придумывать их. Другое дело, что все они имели второстепенное значение. Но я-то не забыл, как бежал из дому обуянный чувством бессилия, бежал прочь, в огненный ад, от призраков людей некогда спокойно спавших у себя в постели, приглашавших к себе домой друзей, потчевавших их чаем с вишневым вареньем и изничтоженных, сметенных отсюда помелом, да так сметенных, что и холмиков-то могильных после них не осталось. Правда, иногда я успокаивая себя, очень старался убедить себя в том, что я ничуть не хуже своего предшественника, тот ведь тоже занимал апартаменты какого-то сбежавшего эмигранта, ну ты и сам поимешь всю слабость этого аргумента. Ты не устал слушая меня, сынок?