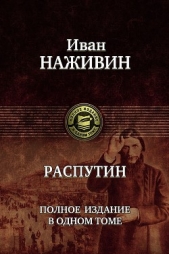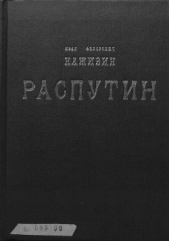Искушение в пустыне

Искушение в пустыне читать книгу онлайн
Что будет, если сослать всех коммунистов мира на тропический остров? Начнется с бесконечных митингов, исполкомов и комиссий, затем станут искоренять инакомыслящих и внутренних врагов и появятся доблестные чекисты — а потом? На этот вопрос отвечает фантастическая повесть видного русского беллетриста И. Ф. Наживина (1874–1940). Повесть была создана писателем в эмиграции на рубеже 1920-х годов и переиздается впервые.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Ни черта, что фальшивые… — тихо сказал высокий коммунист своему приятелю, маленькому зеленому чахоточному. — Если удастся вырваться отсюда, и на этих хорошо заработаем: сработаны на славу…
— Не голыми же уходить с этого проклятого острова!.. — сердито буркнул тот. — По пути сбудем где-нибудь…
— Но знаете, что больнее всего?… — дрожащим голосом, сквозь сдерживаемые слезы сказала Маслова, обращаясь к профессору Богданову, который смотрел на все происходящее со своей обычной улыбкой. — Это то, что находятся люди, которые смеются над нами… Вы, умный, образованный человек, не можете отрицать, что движение наше выросло из страдания человеческого. Вы не можете не согласиться, что, если усталым людям не удалось осуществить их мечты о земле обетованной, об отдыхе от вековой грызни, то все же простительно им было хоть на время отдохнуть на этой мечте. И все так кончилось… Нам больно, а вы… смеетесь…
— Сударыня, ради Бога… — воскликнул профессор. — Я вполне понимаю, как вам тяжело, — это просто дурная привычка… Ради Бога простите…
И вдруг среди шума на трибуне незаметно появился Петр.
— Товарищи… — сказал он. — Низвините: я складно говорить не умею… того… да говорить много и не о чем… Да… Я уезжаю вот и одно хочу сказать вам на прощанье: гордые все вы очень — все от того и пошло. Умнее всех мы себя посчитали… Покаяться надо и смириться, ничего не поделаешь… Да… У нас, у русских, поговорка есть: сердцем пня не сшибешь… А еще говорим мы и так: дашь сердцу волю, попадешь в неволю. И вот тут есть многие которые не понимающие по-нашему, по-русскому, так вот переведите, молю вас, на все языки… и всем скажите, что русский солдат, мол, Петра… убивец, грешник… так говорит: не серчайте ни на кого, окромя себя, покайтеся… Вот и все. Низвините, что нескладно сказал… Простите ради Христа… — заключил он и низко, по-старинному, поклонившись на все четыре стороны, затерялся в смутно галдевшей толпе, которая ничего не поняла да и внимания большого не обратила на него.
— Доктора… Ради Бога скорее доктора!.. — в ужасе крикнула молоденькая коммунистка, вбегая. — Скорее, скорее…
— Что случилось? — тревожно зашумело собрание. — Что такое?
— Еву убили!.. — задыхаясь, крикнула девушка. — Еще жива, но скорее доктора… Все перерыто, а она в крови плавает… Должно быть, камней ее искали…
— Боже мой!.. Да ведь они же фальшивые!.. — с отчаянием крикнул кто-то.
— Иду, иду… — сказал невозмутимо доктор Бьерклунд.
Лорд Пэмброк и смущенный профессор пошли было за ним, но вбежавший откуда-то Арман что-то тихо сообщил матросам и обратился к профессору:
— Не уходите, профессор. Лейтенант очень просил вас подождать его… Он сейчас придет… Товарищи!.. — крикнул он. — Большинство негодяев уже арестовано, но некоторые скрылись. Сейчас получено известие, что все эти господа со всего острова стянулись к горе Великого Духа и залегли там. Их окружает второй десант с «Норфолька».
Один из матросов, став на возвышение, быстро сигнализирует что-то флагами на крейсер. Оттуда отвечают такими же сигналами и чрез короткое время с крейсера гремит орудийный выстрел, потом еще и еще… И видно, как на горе Великого Духа рвутся снаряды.
— Боже мой, Боже мой!.. — схватилась за седую голову Маслова и вдруг мучительно зарыдала.
Смутный говор. Профессор смущенно потупился. Вдали ухают пушки…
Третий свисток
Очень бедная комнатка Евы. Видно, как маленькими женскими безделушками она пыталась создать себе уют, гнездо. Над рабочим столом потрет Макса, обвитый флером и уже увядшими цветами. А на убогой узенькой кровати лежит и тяжко стонет Ева. Голова ее забинтована вся, все лицо — один сплошной багровый кровоподтек, глаза запухли… Маслова в белом платье больничной сиделки сидит в плетеном кресле, а у окна на стуле понурился профессор Богданов, потухший.
— Боже мой… — печально и тихо говорила Маслова. — Да разве мы были недостаточно жестоки к себе эти последние годы? Вы скажете: и к другим. Да, и в этом наше несчастье… И мы за это платили, — не все, но многие, и очень платили, как ваш Петр.
Ева застонала и невнятно проговорила что-то нежное.
— И эта ваша теория коммунизма, как душевной болезни… — после небольшого молчания продолжала Маслова тихо. — Борис Николаевич, ведь это жестоко, это несправедливо и как это опасно!.. Если мы больны, то те, наши противники, значит, здоровы, да?.. С их тюрьмами, войнами, проституцией?.. Они здоровы?.. И скажите: удовлетворительно, сносно, терпимо было положение рабочих масс в мире? Не вырождались они от постоянных голодовок, не гибли миллионами бессмысленно и преждевременно от всяких болезней, темноты, жалкие, беспомощные? И на глазах у них этот вечный праздник победителей, которые не знали, как уж и беситься… И, когда, наконец, все взорвалось, все завопили, что народ жаден, гадок, ленив, хищен, что он зверь, — да, но откуда, где, как, у кого мог он научиться быть лучше?..
— Но революции только ухудшили положение рабочих масс… — сказал профессор.
— Да, в этом-то весь и ужас… — тихо прошептала Маслова и заплакала горько.
В дверь осторожно постучали. Маслова встала и осторожно отворила дверь. Вошел Гольдштерн.
— Профессор, скоро третий свисток… — шепотом сказал он.
— Я не приду: Еве очень плохо… — тихо отвечал профессор. — Очень кланяйтесь Петру от меня и передайте ему вот это на путевые расходы… — доставая из бумажника заготовленный чек, сказал он. — И всем там кланяйтесь. А увидите доктора, скажите, чтобы непременно заглянул к нам поскорее…
— Хорошо… А Еве совсем плохо?
— Плохо.
— Вот мерзавцы!.. — шепнул Гольдштерн. — Знаете, я готов своими руками передушить их всех… Какая гениальная идея, а они что сделали… Сейчас все это зверье провели под караулом на пароход… Ну, я бегу…
И, почтительно пожав руку знаменитому профессору, Гольдштерн озабоченно скрылся.
— Вашей теорией вы как бы выносите оправдательный приговор всем этим торжествующим… — продолжала тихо Маслова. — А ведь истинные виновники тяжкой общественной болезни все-таки они… Если бы хоть чуточку были они помягче к меньшим… если бы хоть изредка, хоть иногда вспоминали они о — Христе… — совсем тихо, как бы стыдясь чего, прошептала она.
— Своей «теорией» мне хотелось повлиять на ваших… — сказал профессор. — Мне хотелось раскрыть им глаза, предостеречь их от несбыточных надежд. Ведь, вы понимаете теперь, что ваши усилия, стоившие человечеству столько страданий и крови, бесплодные усилия, что надо искать каких-то новых путей к освобождению человека… если они есть…
— Путей этих нет… — тихо и скорбно сказала Маслова.
— Есть один путь, Христов, но вот уже 2000 лет прошло, а люди не приняли его. Этот несчастный тупой Рукин со своими толстовцами надеется, что то, что не удалось Христу, сделает он, но ведь это же только ограниченность!.. Вон Гольдштерн говорит: зверье… своими руками задушил бы… Да разве это поможет? Лучше будем нашим участием хоть чуточку смягчать вечное страдание человеческое… Да, — тяжко вздохнула она. — Жизнь человеческая это вечная кровоточащая рана, а любовь Христова — вечный утешающий боль пластырь, только утишающий, но не исцеляющий навсегда… Она тихо заплакала.
Ева вдруг быстро и легко приподнялась с подушек и чисто, внятно и нежно заговорила:
— Максик… миленький… Ах, как хорошо мне с тобой!.. Посмотри, какие веселые зайчики играют на волнах… И сколько, сколько!.. — нежно рассмеялась она. — И как журчит и лепечет под лодкой вода. А парус — точно грудь большого лебедя… Максик, любименький мой, как хорошо!..
На стене и на кровати загорелись теплые, золотистые зайчики от заходящего солнца и, вся одетая этим мягким сиянием, Ева говорила внятно и нежно:
— Ты не можешь себе представить, Максик, как я все люблю, — ну, все, все, все… Только бы вот ходить, смотреть, слушать… Цветы, развалины, людей, реки, песни, облака, — все!.. А потом — был бы у нас домик, веселенький, беленький, как, ты рассказывал, был у тебя в горах, и ты писал бы людям о прекрасной жизни… И были бы у нас детки — маленькие, розовенькие, в ямочках, с точно перевязанными ниточкой ручками и ножками. Хорошо, Максик?.. Ну, что же ты молчишь? — с укором сказала она и с все возрастающей тревогой, ища вокруг руками, звала: — Мак-сик… Макс, да где же ты?… Боже мой, опять отняли… Макс, милый, не пугай так меня… Ой, схватили, держат, бьют… За что, за что?… Ой, пустите… О-о…