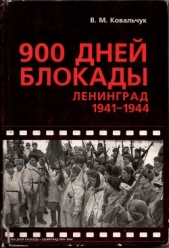Журнал Наш Современник №5 (2002)

Журнал Наш Современник №5 (2002) читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Неторопливое движение носовского пера не оставит никакой мелочи, ни самых незначительных деталей без внимания и тем придает и деталям и мелочам укрупненное, самостоятельное значение. И вспоминаются вдруг с радостным удивлением какие-нибудь “четыре высоконьких, стаканчиками, копытца” кобылы Даньки, “бабий прозорливый плач”, “застрехи пороховых соломенных кровель”.
На последнем построении призывников у конторы в глаза Касьяну лезет всякая мелочь, какая раньше не примечалась. Куст крыжовника откуда-то взялся, должно быть, Дуська-счетоводка сплевывала за окно кожурки ягод, крыжовник и принялся расти. Под кустом пестрявая курица, не боявшаяся толкотни, “лежа на боку, словно кайлом, долбила край ямки, обрушивала комья под себя, после чего, мелко стуча свободным крылом, нагребала на спину наклеванную землю, топорщилась всеми перьями, блаженно задергивая веком единственный глаз”. Казалось бы, для чего тут какой-то крыжовник, эта бестолковая курица: разве для того только, чтобы в неожиданном ракурсе напомнить о фразе Афони-кузнеца, что нам, дескать, такую бы войну, чтобы и курицу не зашибить, — когда вон какое серьезное дело затевается — война — и бабьи слезы не театральные, и столько разговоров о неприятеле и догадок, большая война ожидается али маленькая, — хотя для усвятца, уходящего навсегда, это не может иметь никакого значения. Однако для художника нет незначительного в изображении, все необходимо ему для полного исчерпания сущего — с мелким и большим, которые в этом исчерпании уравниваются. Язык его богат и гибок, за этим языком ощущается мощная толща прежней жизни, и, может быть, Евгений Носов один из последних могикан того прежнего русского языка, которым с исключительной полнотой изъяснялись и прежняя русская жизнь, и прежний русский человек.
Он пишет человека цельного, полнокровного, действующего в среде своего племени и народа, и выражает собой его, народа, идею и идеал. И может быть, язык художника — отзвук голоса страждущего, уходящего и растворившегося в городах народа и, должно быть, так же со временем отомрет, как отмирает та часть русской жизни, содержанием которой он являлся. Язык этот исчерпывает полноту прежнего цельного Человека, краски его бытия, плотскую насыщенность обильного тука его жизни, звенит тысячами оттенков и обертонов — но это язык уходящий...
Каковы же предпосылки Конца Света, о котором мы намеревались сказать, в чем их значение?
Мы ничего не сможем в этом понять без проникновения в ту сторону повествования Носова, которая корнями своими уходит в урему, в гибельный лес, в топи да болота: в дикое языческое чернолесье, в прародину Человека, из которой выросли его нервы и вызрели первые животные инстинкты и ощущения. Эта сторона напрямую связана со второй ролью Человека в Свете, о которой он сам до времени и не подозревает. Если краем смысла урема является источником погибели, ибо несет в себе потенциал нечистых неодушевленных сил, то вторая ипостась Человека, как бы подпитанная этими силами, — саморазрушительна.
Вернемся к последней сходке усвятских мужиков — на “тайную вечерю” у дедушки Селивана — и вспомним, кто он такой в Усвятах: “Жил он бобылем, в старенькой своей избе с давно осыпавшейся трубой, после смерти старухи не держал во дворе никакой живности, кроме воробьев да касаток, и даже не засевал огорода, дозволив расти на грядках чему вздумается...” У него “упрятанные под куделистые брови, но все еще живые востренькие глазки”, — по книге “старинных письмен” имя его означает леший. Он один из немногих мужчин в Усвятах, бывших на прошлой мировой войне, и ему приходилось убивать людей.
Новобранцы собрались у дедушки Селивана выпить, поделиться сокровенным, старик достает свою книгу и открывает ошарашенным мужикам подлинное значение их собственных имен. Николай оказывается “победителем”, Алексей “защитником”, Касьян “шлемоносцем”, то есть усвятские мужики являются по именам своим еще и ратниками, “имеющими указание к воинскому делу”. Токмо детей стращать, думает Касьян по возвращении домой.
Однако мужчина в Свете — и об этом, по сути, прямое, в настоящем времени повествование в “Усвятских шлемоносцах” — вспомним русское “мир стоит до рати”, об этом главный рассказ художника, — как существо заботливое, носит долг защитить все то, что входит в круг его жизни: семью, дом, родину, мир, и потому подлежит военной обязанности. Повесть о том, что предшествовало уходу мужиков на рать, о стоянии мира перед войной. Неторопливый разговор писателя подготавливает мысль о времени Человеку осуществить свой долг в последней рати, небывалой на Руси по своей кровопролитности и жестокости. Достаточно вспомнить статистические двадцать семь миллионов погибших и отнести большую часть убыли на тогдашнюю русскую деревню, очень плотно заселенную. По селениям северной Руси — из архангельских и вологодских областей — из каждых двухсот ушедших на войну мужиков возвращалось шестеро. Сход в небытие усвятских мужиков — самой зрелой и сильной части населения — в повести Носова подкреплен историческими фактами и носит апокалиптический характер. Художник знает о том, что и Касьян и уходящие вместе с ним усвятцы обратно не вернутся. С ними прощаются всерьез, и Алексей-защитник, Касьян-шлемоносец, и его брат Никифор-победоносец, и даже Афоня — не боящийся смерти — никто не вернется, всем гибнуть подчистую. Сколько тому примет на страницах повести! Как зловещий знак невозвращения почти перед каждым домом вырыта яма: писатель объясняет его прозаически — хотели поставить столбы под радио, да не успели за войной. Касьяну снится червонец, обернувшийся сперва дамой пик в невестиной фате, а потом смертью, нюхающей цветок. Слухи: “Бают, кабудто в рай будут зачислять”, за что позже Прошка-председатель сурово отчитывает: “Чтоб, значит, не пользовались посторонними слухами”. Прошка — человек реальный, иллюзий на счет уходящих не питает и провожает их точными и нужными словами: “Не этот флаг вы идете оборонять, который на конторе, а знамя... вовсе не из материалу, не из сатину или там еще из чего. А из нашего дела, работы, пота и крови, из нашего понимания, кто мы есть...” Люди собираются основательно, знают срам, в святое дело не лезут на четверях, как Кузьма. Вообще уходят с достоинством.
И Касьян знает, что свой ратный долг обязан избыть с честью. Своей жене он говорит: “Жил? Жил! Семью, детей нажил? Нажил. Вот они лежат, кашееды. Да с тобой третий. Нажил — стало быть, иди обороняй. А кто же за тебя станет?” Повесть еще и об этом: наше понимание, кто мы есть, сам жил и детей нажил — теперь пострадай. В одном из толкований мира присутствует древнее слово “страда”. Мир — это страдание. Не в нашей воле изменить мир, но должно перестрадать факт своего материального существования в Свете со всем его плотским содержимым, с болезнями, горем, войнами.
В контексте Конца Света уход мужиков на войну, исход русской деревни, от которого она не смогла оправиться, — наши современники застали на ее месте дотлевающие головешки — событие эсхатологическое и требует объяснений некоего высшего рода...
Сперва о том, что сами мужики предчувствуют погром деревни. Касьяна “проняло тоскливым ощущением близкого исхода: рвались последние ниточки, привязывавшие к деревне, к привычным делам. Все, отходился, отконюховал... Как же оно тут будет, если так вот все бросим? Война с ее огнем далеко, но уже здесь, в Усвятах, от ее громыхания сотрясалась и отваливалась целыми пластами отлаженная жизнь: невесть на кого оставлялась скотина, бросалась неприбранная земля...”
Вообще о социальном в повести Носова написано немного, художник в большей степени озабочен вечным, нежели преходящим. Вечное гармонично, оно — “лад”, социальное же в разладе. Не писал о социальном не только потому, что во время оно о нем нельзя было сказать правды, писателю было достаточно бы и того, что он сказал через “вечное”. Однако нам в своем разговоре придется “тронуть” и преходящее.
Касьяна томил “недуг души”, “когда он оказывался во всеобщей толчее — возле правления, на скотном базу или в мужицком сходе на улице”. Деревня из ночных лугов представляется ему еще и так: “С берегов Остомли в легкой подлунной полумгле деревня темнела едва различимой узенькой полоской, и было странно Касьяну подумать, что в эту полоску втиснулось почти полторы сотни изб с дворами и хлевами, с садами и огородами да еще колхоз со всеми его постройками. И набилось туда более пятисот душ народу, триста коров, несчетное число телят, овец, поросят, кур, гусей, собак и кошек. И все это скопище живого и неживого, не выдавай себя деревня редкими огоньками, чужой, нездешний человек принял бы всего лишь за небольшой дальний лесок, а то и вовсе ни за что не принял, не обратил бы внимания — такой ничтожно малой казалась она под нескончаемостью неба на лоне неохватной ночной земли. И Касьян приходил в изумленное смятение, отчего только там ему так неприютно и тягостно, тогда как в остальной беспредельности, середь которой он теперь распластался на кожухе, не было ни горестей, ни тягостной смуты”.