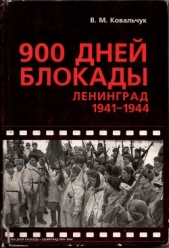Журнал Наш Современник №5 (2002)

Журнал Наш Современник №5 (2002) читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Мы хотим проследить мотив “Апокалипсиса” в повести Евгения Носова, при том что сам художник писал совсем об ином и специально не заботился о подобном контексте догадок “чему надлежит быть вскоре”, да, возможно, к году написания своей вещи и не испытывал влияния святого Иоанна, “брата нашего и соучастника в скорби”, настолько явного, что это влияние могло отозваться в его творчестве.
И это при всем том, что художник кропотливо воссоздает словом всю материальную, вещную сторону жизни со всеми ее земными и “земляными” оттенками и со всей возможной полнотой, где, как кажется, нет интеллектуальной напряженности, нет мудрствования, дозволяющего промыслить связь изображения с мистическим подсознательным и непознаваемым — и следовательно, с духовным. Однако отношение художника к главному действующему лицу повести Касьяну настолько религиозно и так прозрачно соотнесено с тем высшим, что неназываемо и потому неподвластно режущей силе материалистического скальпеля и что как бы не существует как “предмет” в плотском “обиходе” жизни, но без которого по-настоящему мы и не сможем понять и оценить ни этого самого “обихода”, ни всего его очарования и всей его трагичности, — что мысль о Конце Света в связи с событиями повести не представляется чем-то необычайным. Тем более что сама “космогония” повести, ее яркий мир с укрупненными образами людей, собственно язык и художественная ткань произведения — о чем попытаемся сказать позже как о необходимом элементе нашего рассуждения — как бы наталкивают на выводы обобщающего характера, и именно предзакатного, конечно, характера.
Соглашаясь с тем, что наша работа носит экзотический оттенок, не лишена некоторых домыслов и догадок без объяснений, заметим, что Евгений Носов как бы подковал своего коня на все четыре копыта, и тот теперь скачет, куда хочет, и ничья узда толкований не станет ему впору, в том числе и наша.
По крупности изображения, по яркости красок и ясности образа Касьяна в повести условимся принять его как прообраз Человека с большой буквы, то есть как феномен. Договоримся также о необходимости двух “доказательств”: что в повести “Усвятские шлемоносцы” со всей прелестью изображен Свет с носителем своего смысла, с Человеком (Касьян), что этому Свету суждено погибнуть вследствие нарушения неких правил существования — назовем эти нарушения правил грехом, а также укажем содержание этого греха.
Оставим без изучения ряд совпадений в текстах “Откровения Иоанна” и повести Евгения Носова, которые иногда имеют удивительный резонанс, — они носят случайный характер и не играют особой роли в нашей работе, ибо ее выводы опираются на более глубинные параллели — и перечислим некоторые из них.
Из своего детства Касьян помнит причитывания бабушки о змеях, якобы водящихся в страшном уремном лесу близ деревни Усвяты, где они жили и где происходит действие повести: “Как у спинь-болота жили три змеи: как одна змея закликуха, как вторая змея заползуха, как третья змея веретенка...” Образы змей как колдовской, нечистой силы в представлениях русских совпадают с толкованием образов драконов в “Откровении”: они суть воплощения сатаны.
После сходки усвятских мужиков у дедушки Селивана на последний перед уходом на войну совет — на “тайную вечерю” — хмельной Касьян видит, как в заречье реки Остомли луна “багрово зависла в лугах и почему-то казалась Касьяну куском парного легкого, с которого, сочась по каплям, натекла под ним красноватая лужа речной излучины”. “Откровение”: “Солнце стало мрачным как власяница, и луна сделалась как кровь”.
В “Апокалипсисе” четыре всадника: один победоносный, другой назначен взять мир с земли, третий появляется на страницах “Откровения” с мерой в руке, четвертый есть сама смерть.
В “Усвятских шлемоносцах” тоже четыре всадника. Бригадир “воевода” Иван Дронов, “все с той же непроходящей сумрачной кривиной на сомкнутых губах” — он одним из первых усвятцев добровольно уйдет на войну. Колхозник Давыдко, принесший на покос весть о начавшейся войне: “дочерна запеченный мужик в серебре щетины по впалым щекам” — и скакал-то с вестью “локти крыльями, рубаха пузырем”. Третий всадник прибыл в Усвяты с повестками о мобилизации на войну: “верховой, подворачивая, словно факелом подпаливал подворья, и те вмиг занимались поветренным плачем и сумятицей, как бывает только в российских бесхитростных деревнях, где не прячут ни радости, ни безутешного горя”. Конечно же, повестки эти кажутся вызовом на последний Суд: “Посыльный достал из-за пазухи пиджака пачку квитков, полистал, озабоченно шевеля губами, про себя нашептывая чьи-то фамилии, и наконец протянул Касьяну его бумажку. Тот издали принял двумя пальцами, будто брал за крылья ужалистого шершня, и, так держа ее за уголок перед собой, спросил:
— Когда являться?
— А там все указано”.
“Свернутая чурочкой клеенчатая тетрадь”, в которой должны расписаться оповещенные, безусловно, напоминает книгу жизни из “Откровения”: “...и судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими”. А вот так она описана в повести Евгения Носова: “Тетрадка была уже изрядно потрепана, замызгана за эти дни множеством рук, настигнутых ею где и как придется, как только что застала она и Касьяна. Перегнутые и замятые ее страницы в химических расплывах и водяных высохших пятнах, в отпечатках мазутных и дегтярных пальцев, с этими молчаливыми следами чьих-то уже предрешенных судеб, чьих-то прошумевших душевных смут и скорбей, пестрели столбцами фамилий, против которых уже значились неумелые, прыгающие и наползающие друг на друга каракули подписей. Попадались и простые кресты, тоже неловкие, кособокие, один выше другого, и выглядели они рядом с именами еще живых людей как будто кладбищенские распятия”.
“Значит, люди требуются. Как дровца в печку”, — заключает верховой, не подозревая, конечно, какой силы огонь будет сжигать этих людей в той невиданной войне.
Последний, четвертый, всадник в повести — лейтенант из военкомата, организующий сбор призывников и отправку их в части — появляется, действительно, будто с иного Света. “...У перил остановился непривычный для здешнего глазу, никогда дотоль не бывавший в Усвятах военный, опоясанный по темно-зеленой груди новыми ремнями, в круглой, сиявшей козырьком фуражке и крепких высоких сапогах, казавшийся каким-то странным пугающим пришельцем из неведомых обиталищ, подобно большой и непонятной птице, вдруг увиденной вот так вблизи на деревенском прясле. Смугло выдубленное лицо его было сурово и замкнуто, будто он ничего не понимал по-здешнему...” Мало что суров, непорядка не любит, но и человек обстоятельный, все считает по бумажкам: “Листки, должно, были сложены неправильно, потому что молчаливый лейтенант взял неспешно, с давящей обстоятельностью наводить в них какой-то свой порядок: опять положил верхнюю бумажку по низ, нижнюю — сверху, а ту, что была до того наверху, заложил в середину”. Прямо-таки провожатый на тот Свет с наказом от Иоанна: “Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть”. Должно быть, усвятский “материал”, все эти мужики казались ему поначалу, как дедушке Селивану в другом месте повести: “...как серые горшки перед обжигом: никому из них не дано было знать, кто выйдет из этого огня прокаленным до звона, а кто при первом же полыме треснет до самого конца”.
Жена Касьяна Натаха, беременная третьим, рассказывает сказку своему младшенькому: “А змей тот немецкий о трех головах... из ноздрей огонь брызгает, из зеленых очей молоньи летят. Да только папка наш в железном шеломе, и рубаха на ем железная...” “Откровение”: “Дракон сей (о семи головах) стал перед женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца”.
Далекий гул приближающейся к Усвятам войны разбудил деревенскую мифологию: жили ведь, “как в мешке завязаны”. Немцы представляются усвятцам с копытами и в касках с рогами, то есть жутковатыми, чертоподобными существами явно из легиона той самой нечисти из “Апокалипсиса”: “Они ж не нашенской веры, а может, и вовсе без никакой, потому, должно, и рога”. А сколько примет по поводу! “От метлы щели нет”, “Со смятой душой на такое не ходят”, “Догорела свеча до огарочка”, “Это верно: что в гроб, что на войну — в чистом надо”. Касьян письмо от брата Никифора, подумав, “бережно засунул за Николу (икона в доме Касьяна), который спокон веку хранил все ихние счета с посюсторонней жизнью”. И может быть, самая точная и острая примета — уход мужиков на войну от всего родного и близкого, во что врос сердцем и жизнью, — отзывается во фразе Иоанна, наверное, слишком загадочной во всем его сочинении: “...Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою”.