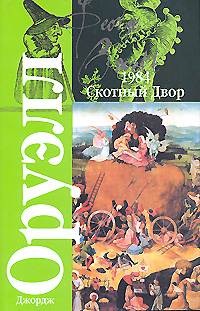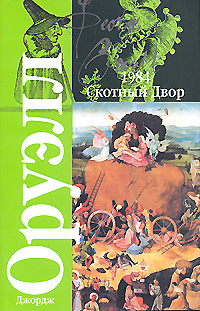Человек нашего столетия
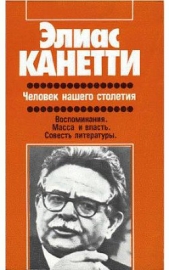
Человек нашего столетия читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
И вдруг ситуации, раскручивавшиеся целые годы, стягиваются в одну-единственную сцену конкретной действительности. Тогда то, что прежде происходило в течение недель и месяцев, повторяется в считанные мгновения; все кажется знакомым, только вот непонятно — откуда: изменение ритма и длительности происходящего не дает осознать этого. Но после, когда сцена завершилась, сразу приходит облегчение и становится видна жуткая компактность разыгравшегося: за один или два часа перед тобой пролетели годы; годы, памятные до подробностей, потому что в них было много боли. Не исключено, что вообще только так и можно освободиться от выстраданного и, быть может, именно здесь берет свое начало драма.
Меньше ли страха у животных оттого, что они живут без слов?
Гоббс [197]. Среди мыслителей, не связанных с какой-либо религией, меня способны впечатлять лишь те, что мыслят достаточно экстремально. К ним принадлежит Гоббс; в настоящий момент он для меня важнейший.
Лишь немногие из его мыслей представляются мне верными. Он все объясняет эгоизмом [198], и хотя имеет представление о массе (он нередко упоминает ее), ему, по сути, нечего сказать о ней. Моя же задача как раз и состоит в том, чтобы показать, каковы состав и устройство эгоизма, показать, как то, над чем он господствует, ему вовсе не принадлежит, а берет свое начало в других областях человеческого естества, именно в тех, в отношении которых Гоббс остается слеп.
Но отчего же тогда так впечатляют меня его построения? Почему радует даже ошибочнейшая его мысль, если только сформулирована она достаточно экстремально? Сдается мне, что я обнаружил у него духовный корень того, против чего главным образом и намерен бороться. Он единственный из известных мне мыслителей, кто не драпирует власть, ее значение и вес, ее центральное положение во всем человеческом поведении; он, однако, и не прославляет ее, просто оставляет как есть.
Подлинный материализм, материализм изобретений и исследований, начался в его время. Он испытывает перед ним уважение, не отказывая ради него во внимании и более давним людским интересам и качествам. Ему ведомо, что такое страх; своими расчетами он срывает с него покров. Все последующие, явившиеся от механики или геометрии, отворачивались от страха, и потому он снова стекался обратно, туда, где безымянно мог продолжать в потемках действовать без помех.
Ему чужда недооценка чудовищной значимости государства. До чего жалкое впечатление, в сравнении с ним, производят политические спекуляции позднейших столетий. Руссо в этом соседстве выглядит наивным болтуном. Наиболее ранний период современной истории, уже содержащий нас в том виде, каковы мы сегодня, это XVIII столетие. Гоббс воспринимал этот период осознанно. Все те острые противостояния и расколы партий, среди которых ему приходилось лавировать в течение всей долгой жизни, были достаточно категоричны и опасны, чтобы представлять угрозу и для него. Другого они бы полностью поглотили либо сломали. Он же умел взглянуть на них одновременно изнутри и снаружи, затягивая с ответом на их откровенную враждебность до тех пор, пока собственная его мысль не оформилась и не пришла к окончательным выводам.
Как мыслитель он действительно стоит особняком. Мало найдется психологических течений и направлений в философии последующих столетий, предтечу которых нельзя было бы усмотреть в нем. Он, как я уже сказал, знал много страха и так же открыто говорил об этом страхе, как и обо всем остальном, что занимало его мысли. Его религиозное безверие было удачей, не имеющей себе равных: расхожими обещаниями и провозвестиями его страха было не одолеть.
Приятия существующей политической власти вначале королевской, затем Кромвелевой — как раз ему-то и нельзя вменять в вину: он был убежден в правильности такой ее концентрации. Своей антипатии к воплям массы он не объяснил, но письменно засвидетельствовал. Ни от кого нельзя ждать, что он объяснит все.
Макиавелли [199], вокруг которого поднимают столько шуму, не более чем половина, классическая половина Гоббса, для которого Фукидид был [200] тем, чем для того — Ливий [201]. В религиях Макиавелли, общавшийся с кардиналами, абсолютно ничего не понимал. Опыта массовых религиозных движений и войн, происходивших в течение доброго столетия, разделившего его и Гоббса, он не мог еще использовать. С той поры как существует Гоббс, занятия фигурой Макиавелли имеют всего лишь историческое значение.
Смутное представление о значимости Гоббса было у меня с давних пор. Он импонировал мне еще до того, как я познакомился с ним достаточно подробно. Теперь, после серьезных занятий «Левиафаном» [202], я знаю, что включу его в свою «Библию для раздумий» — в собрание важнейших книг, среди которых на первом месте труды моих врагов. Это книги, на которых оттачивается мысль, а не такие, над которыми размякаешь, потому что они давно уже высосаны и исчерпаны до дна. В «Библию», и это я знаю определенно, не войдут ни «Политика» Аристотеля, ни «Principe» [203] Макиавелли или «Contrat Social» [204] Руссо.
Масса и заглушение. Одна из важных функций массы — заглушать голос опасностей: как землетрясений, так и врага. Люди сбиваются в кучу, чтобы орать громче. И если другое тогда замолкает — подземные толчки либо враги, — то вот и победа. Здесь важно, однако, вспомнить о том, что моря не заглушить. Ведь если даже какой-то могучей массе и удалось бы на мгновенье перекрыть своим ревом шум волн, это все равно не заставило бы его замолчать. И потому в сознании людей, которым оно знакомо, море осталось как наибольшая масса, с которой им на самом деле не сравняться никогда.
Слова, без которых нельзя прожить, такие, как любовь, справедливость и добро. Им позволяют вводить себя в заблуждение, видят это и сознают — но лишь затем, чтобы с еще большею страстью верить в них.
Вот уже неделю занимаюсь книгой, от которой мне становится необыкновенно тревожно: это «Размышления нервнобольного», принадлежащие перу бывшего председателя судебной коллегии Шребера, книга, почти пятьдесят лет назад, в 1903 году, изданная на средства самого автора, скупленная его близкими, изъятая из продажи и уничтоженная, а потому сохранившаяся в нескольких считанных экземплярах. Один из них при необычных обстоятельствах попал в 1939 году в мои руки и находился с тех пор у меня. И я, еще не читая книги, чувствовал, что она будет важна для меня. Подобно многим другим, она ждала своего часа, и теперь, взявшись приводить в порядок мои соображения относительно паранойи, я раскрыл ее и прочел, трижды кряду. Не думаю, что когда-либо еще другой параноик, годами в качестве такового содержавшийся в лечебнице, изложил свою систему с подобной полнотой и убедительностью.
Чего только я не нашел у него! В том числе и свидетельства, подкрепляющие некоторые из мыслей, занимавших меня в течение многих последних лет: к примеру, о неразрывной связи между паранойей и феноменом власти. Вся его система есть выражение борьбы за власть, причем Бог собственной персоной — главный его противник. Шребер долгое время жил в плену представления, будто он единственный в мире оставшийся в живых человек; все же остальные — души умерших и, в многочисленных воплощениях, Бог. Это представление о собственной единственности как о реальном факте либо стремление к ней, взгляд на себя как на единственного живущего в окружении мертвецов — определяющий момент как в психологии параноика, так и в экстремальных проявлениях психологии властителя. Эта связь впервые открылась мне в 1932 году в Вене, когда я присутствовал на судебном процессе над железнодорожным налетчиком Матушкой.