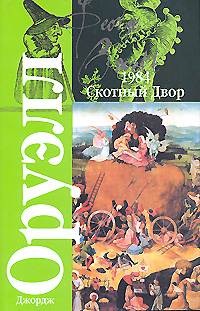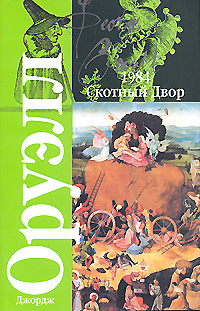Человек нашего столетия
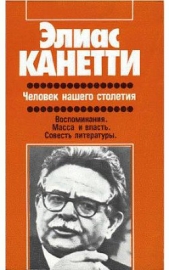
Человек нашего столетия читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Эшбах, президент Штрасбургского коммерческого суда рассказывал моей приятельнице Мадлен К., что он в молодости навещал в Сульце одного старого господина, проживавшего там в замке. У того уже немного мешалось в голове, и как-то раз он сказал: «Dans ma jeunesse quand j'etais en Russie, j'ai tue que-lqu'un en duel. Mais je ne sais plus qui c'etait» [205]
Это был Пушкин.
Все, что было, поддается улучшению. Душа историографии, скрытая от нее самой.
1956
Об именах в истории
Это сплошь могучие имена, все другие умирают. Таким образом, по имени можно измерять силу выживания. По сей день это единственная реальная форма долгожительства. Да, но как выживает имя?
Удивительная прожорливость имени. У имени каннибальские замашки. Жертвы его приготовляются различными способами.
Есть имена, которые принимаются за дело лишь после смерти их обладателя, до той поры у них нет аппетита. Есть имена, принуждающие их носителя пожирать все, что подвернется еще при жизни, имена ненасытные. Есть имена, что иногда постятся.
Есть имена, зимующие под снегом. Есть имена, вынужденные долго таиться, чтобы затем объявиться со своим волчьим аппетитом, весьма опасные имена.
Есть имена, питающиеся по равномерно растущему рациону, имена солидные, скучные имена. Их разумная гигиена не обещает долголетия.
Есть имена, питающиеся исключительно коллегами, цеховые, так сказать, имена, и иные, процветающие лишь среди посторонних.
У некоторых зубки прорезаются среди чужих, а уж пропитание они находят после среди своих.
Имена, живущие потому, что хотят умереть. Имена гибнущие, потому что единственное их стремление — жить.
Безгрешные имена, что живы, потому что воздерживались от всякой пищи.
Пока есть на земле хоть сколько-нибудь людей, не обладающих вовсе никакой властью, рано еще отчаиваться окончательно.
Всякое произнесенное слово — лживо. Всякое написанное слово — лживо. Всякое слово лживо. Но что остается без слов?
Провести остаток жизни в совершенно новых местах. Книги забросить. Все начатое сжечь. Отправиться в страны, языку которых никогда не научиться. Беречься всякого объясненного слова. Молчать. Молчать и дышать. Дышать непонимаемым.
То, что я ненавижу, — не выученное, я ненавижу то, что живу в этом.
Смехотворно в порядке то, что он зависит от всякой малости. Волосок, буквально один волосок, лежащий там, где лежать не должен, может разделять порядок от беспорядка. Все, что не должно быть там, где находится, — враждебно. Мешает даже самое крошечное; человек порядка, совершенного порядка, должен бы обшаривать зону своей деятельности с микроскопом. Но даже и тогда в нем оставался бы еще след готовности к беспокойству. Женщины в этом отношении по-видимому наиболее счастливы, поскольку они главным образом наводят порядок, и все в том же самом месте. Есть в порядке что-то убийственное: ничто не должно жить там, где нет на то дозволения. Порядок — это небольшая самодельная пустыня. И что важно — она должна иметь границы, чтобы владелец мог как следует приглядывать за порядком. Бедным и несчастным чувствует себя человек, не владеющий таким пустынным царством, где он имеет право душить все в неистовой злобе.
Поскольку я совершенно не способен существовать без слов, то должен оберегать свое доверие к ним, а оно возможно, только если я не затеваю с ними маскарадов. И потому всякая претензия на внешний эффект, опирающийся на слова, — вещь для меня невозможная. Я могу записывать их и тихо сохранять где-то. Я не могу швырять их кому-то в лицо и не могу торговать ими. Мне неприятно даже что-то изменять в них, коль скоро они уже написаны. Всякие разговоры об искусстве, особенно разводимые теми, кто сам подвизается в какой-то из его областей, для меня нестерпимы. Я стыжусь за них, будто они знахари, разве что те интересней. Да, книги мне святы, но к литературе это отношения не имеет, а уж к написанному мною самим и подавно. Многие тысячи книг важней для меня, чем те весьма немногие, которые написал я. Впрочем, для меня каждая книга неким физическим, трудно поддающимся объяснению образом — важнейшая. Мне ненавистна безупречная красота сознательно построенной прозы. Это верно, что иные из важнейших вещей высказаны красивой прозой, но в тех случаях все произошло, так сказать, помимо воли писавшего: сами вещи были важны, вот вышла хороша и проза; они были столь тяжки и настолько глубоко упрятаны, что не так просто было лишить их меры. Красивая проза, развертывающаяся в сфере прочитанных истин, похожа на демонстрацию мод в языке, она не переставая вертится вокруг самой себя, и я даже презирать ее не могу.
В «Тайной истории монголов» я нашел нечто, затрагивающее меня особенно близко: историю обладателя громадной власти, которому до самого конца сопутствовало счастье, поданную изнутри. Возможно, не каждое донесенное ею слово правдиво, но целое пропитано некоей глубинной истинностью, о существовании которой я никогда и не подозревал. Мне оказываются знакомы, как бы странно это ни звучало, слова, с которыми обращалась к Чингисхану его мать. Я чую их запах. Я от него так близко, что вижу его и слышу. Как огромно различие между такого рода устным преданием и теми историческими описаниями, какими приходится обыкновенно довольствоваться.
Прежде всего, здесь, в этом «тайном» монгольском предании, еще присутствуют все те животные, которые составляют часть их жизни. Здесь имена, с которыми они обычно обращаются к местностям, селениям и людям. Здесь и бурные мгновения, переданные во всей взволнованности и возвышенности чувства, — не сухое перечисление страстей, а сами страсти. Эти повествования можно сравнить лишь с библейскими сказаниями, и параллель этим не ограничивается. Ветхий завет есть история власти Бога, тайная книга монголов — история владычества Чингисхана. Это власть над группой племен, и племенные чувства так преобладают в ней над всем остальным, что можно бы поменять имена — и тогда поди разберись где находишься.
Власть Бога, это верно, начинается с творения как такового, и история притязаний этого творца и есть, пожалуй, то, что придает библейскому повествованию его неповторимое своеобразие. Однако ж и сам Чингисхан не многим скромней. Он тоже, как и Бог, орудует смертью. Он так же щедр на нее, как и тот, и еще щедрей, еще меньше оставляя живого вокруг себя. Но ему присуще также и сильно выраженное чувство семьи, чего Богу, в его единственности, не дано.
В тоне Ницше есть нечто от Корана. Мог ли он и помыслить такое!
В принципе действительно значимы для меня теперь лишь дни, отданные какой-либо из священных книг. Как другим в прежние времена необходимо было каждодневно молиться, так я должен раздумывать о какой-нибудь старинной святыне, будто мне следует отыскать там то, что мы можем учинить себе однажды злого.
Но я не желаю предостерегать. И не хочу предвидеть заранее. Терпеть не могу пророков. Я лишь хочу ухватить то, что мы собой представляем. Не думаю, чтобы это можно было найти в толчее аргументаций и борьбе мнений. Но утверждения я желаю знать все. Меня интересуют лишь эти утверждения. Что их можно опровергнуть — знаю. Однако мне хочется, чтобы эти утверждения были во мне, все, рядышком, будто они поистине живы. Мне известно, что они уж больше не те и прежними никогда не станут. Но таково мое намерение, в этом моя задача: иметь их в себе живыми и размышлять над ними.
С нарастающим пониманием того, что мы восседаем на горе мертвецов, людей и животных, что наше самосознание истинную свою пищу черпает в сумме лежащих за нами жизней, со все настойчивей заявляющим о себе пониманием этого становится все затруднительней найти решение, за которое не нужно стыдиться. Невозможно отвернуться от жизни, чью ценность и надежду ощущаешь всегда. Но невозможно также и не жить смертью других существ, чья ценность и надежда ничуть не ничтожней наших.