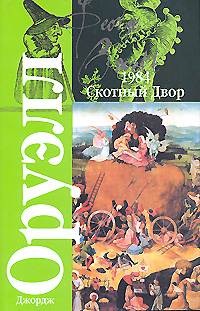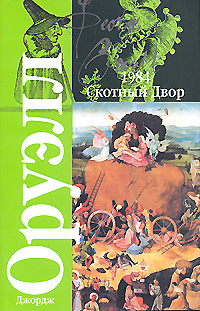Человек нашего столетия
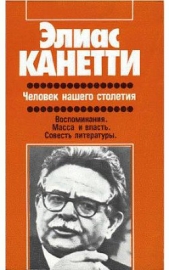
Человек нашего столетия читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
И вообразить невозможно, до чего опасным станет мир без животных.
Тысячелетние царства были: царство Платона, Аристотеля, Конфуция.
Судить о людях по тому, приемлют они историю или стыдятся ее.
Власть кружит голову и тем, кто не обладает ею вовсе; только выветривается она здесь скорее.
Не могу я стать скромным, слишком на многое чешутся руки; прежние ответы рассыпаются в прах, к новым мы не приблизились ни на йоту. Вот я и принимаюсь за все сразу, будто в моем распоряжении сто лет. Но смогут ли другие, когда истекут немногие действительно отпущенные мне годы, как-то воспользоваться этими сырыми догадками и предположениями? Я не в силах помириться на меньшем: ограничение чем-то отдельным, так, будто это все, слишком ничтожно. Хочу все ощутить, перечувствовать в себе, прежде чем думать над этим. Мне требуется время; это долгая история, пока то да се обживется во мне и я без предвзятости могу взглянуть на все. Эти вещи должны во мне пережениться и завести детей, и детей детей, по которым я их испытаю и оценю. Сто лет? Какие-то несчастные сто лег! Да разве ж это много для серьезного замысла?
Лишь в изгнании осознаешь, в какой степени этот мир всегда был миром изгнанников и ссыльных.
Какими только хитростями, какими уловками, обманами, предлогами и подлогами ни воспользовался бы человек лишь затем, чтобы умерший снова оказался здесь.
Что есть человек без поклонения? И что поклонение сделало с человеком!
Великие авторы афоризмов читаются так, будто все они хорошо знали друг друга.
Если мне вопреки всему и довелось выжить, то обязан я этим Гёте — так, как можно быть обязанным только Богу. Но не какое-то одно произведение, а атмосфера и подробная тщательность полноты бытия — вот что нежданно захватило меня. Я могу раскрыть его где угодно, могу прочесть стихотворения тут и письма или несколько страниц описания здесь — уже после немногих фраз это завладевает мной, и я полон такой надежды, какой мне не в силах дать ни одна религия. Я отлично сознаю, что именно главным образом воздействует на меня. Все годы я был суеверно убежден, будто внутреннее напряжение широко мыслящего и богато одаренного духа должно в каждое мгновение заявлять о себе. Ничто, мнилось мне, не может быть вяло и равнодушно, да, даже успокоительно — ничуть и никогда. Я презирал освобождение и радость. Революция была мне своего рода образцом; и чем-то вроде ненасытимой, непрерывной, неожиданными и непредсказуемыми мгновеньями освещаемой революции представлялась отдельная жизнь. Я стыдился иметь какую-либо собственность, даже для обладания книгами измышлял искусные оправдания и уловки. Стыдился, коли оно было недостаточно жестким, кресла, на котором сидел за работой, и ни под каким видом оно не должно было принадлежать мне. Но это хаотическое пламенное существование выглядело так лишь в теории. На деле же все больше и больше оказывалось областей знания и мысли, возбуждавших мой интерес и не проглатывавшихся тотчас, потихоньку прибывавших и разраставшихся год за годом, как у разумных людей, и я не выставлял их за дверь, будто посторонних, из-за того, что они не устраивали немедленно тарарама, обещая плоды лишь много позднее, но тогда порой действительно принося их. Так подрастало, почти неприметно, нечто вроде разума и души. Но они находились под владычеством своенравного деспота, превыше всего ставившего непокой и горячность, проводившего свою внешнюю политику так неверно, лениво и скачкообразно, что все вечно шло вкривь и вкось, а в остальном беззащитного перед лестью любого червя.
Мне кажется, что Гёте постепенно освобождает меня от этой деспотии. До того как снова начать его читать — просто один пример, — я всегда немного стыдился своего интереса к животным и тех знаний, которые постепенно о них приобрел. Никому не отваживался я признаться в том, что сейчас, среди этой войны, почки растений могут так же неудержимо привлекать меня и волновать, как и человек. Мифы я читал охотнее, чем любое сложное психологическое творение современности, и чтобы оправдать перед самим собой этот голод по мифам, я подвел под него научные мотивы и подробно вникал в историю народов, их создавших, и проводил зависимости между ними и жизнью этих народов. Но важным для меня было не что иное, как сами мифы. С того момента как я читаю Гёте, все мне представляется законным и естественным, не то чтобы это были его начинания, нет, это другие, и еще весьма сомнительно, приведут ли они к каким-либо результатам, но он поддерживает во мне чувство собственной правоты: делай что должен, говорит он, пусть даже и нет в этом никакого неистовства, дыши, наблюдай, обдумывай!
А не переоцениваешь ли ты способность других к перевоплощениям? Как много таких, что носят всегда одну и ту же маску, а попытайся сорвать ее, так увидишь: это и есть их лицо.
Не могу больше видеть географических карт. Имена городов смердят горелым мясом.
От каждой бомбы отлетает кусок назад, в неделю Творения.
Все яснее для меня становится то, что в лице Фрэнсиса Бэкона перед нами одна из тех редких и центральных фигур, у которых можно научиться всему, чему можно желать научиться от человека. Он не только знает то, что можно было знать в его время, он беспрестанно высказывается об этом, преследуя своими высказываниями отчетливо различимые цели. Есть великие умы двух родов: открытые и замкнутые. Он принадлежит к последним: он любит цели, намерения его ограниченны; всегда он чего-то хочет, и он знает, чего хочет. Инстинкт и сознание достигают в таких людях полнейшего совмещения. Что именовали его загадкой, есть его полная беззагадочность. У него очень много общего с Аристотелем, на котором он все время пробует свою силу; он желает сменить Аристотеля на его троне. Эссекс — его Александр [194]. Многие лучшие свои годы он употребляет на осуществление этого замысла. Но как только замечает, что это предприятие обречено на неудачу, равнодушно оставляет его. Власть в любой ее форме — вот что интересует Бэкона. Он методичный любитель власти. Ни один из ее потайных уголков не остается необысканным. Одних лишь корон для него недостаточно, сколь бы ни был великолепен и заманчив их блеск. Ему известно, насколько скрыто можно властвовать. Особенно притягательно для него правление человека, простирающееся за пределы собственной смерти: в качестве законодателя и философа. Вмешательство извне, чудеса, он презирает, признавая их разве только как сознательные средства влияния на верующих. Чтобы лишить старые традиционные чудеса их силы, он стремится делать собственные: его философия эксперимента — не что иное, как метод подобраться к чудесам, чтобы похитить их.
Эта давняя уверенность в языке, отваживающаяся нарекать вещам имена. Поэт в изгнании, в особенности же драматург, заметно лишается силы более чем в одном отношении. Вырванный из своей языковой атмосферы, воздуха, которым дышал, он страдает без привычной пищи имен. […]
Вот и остается поэту на чужбине, если он не сдается окончательно, только одно: вдыхать новый воздух до тех пор, пока и он не оживет обращенным к нему окликом. Тот сопротивляется долго, принимается и умолкает. А он это чувствует и глубоко уязвлен; может статься, сам зажмет уши, и тогда ни единому имени не достигнуть его. Чужбина нарастает, и когда он очнется — возле него лишь старый иссохший ворох, и он утоляет свой голод зернышками, сохранившимися от времен юности.
Даже рациональные следствия существования мира без смерти никогда не были продуманы до конца.
Есть одно законное поле напряжения для поэта: близость к современности и сила, с какою он отталкивает ее прочь; жадное стремление к ней и сила рывка, с которой он снова притягивает ее к себе. И потому ей никак не удастся достаточно приблизиться к нему. И потому ему никак не удается оттолкнуть ее достаточно далеко.
Истина это море травинок, колыхающееся под ветром; она хочет, чтобы ее ощущали как движение, втягивали как дыхание. Скала она лишь тому, кто не чувствует ее, не дышит ею; такой может в кровь биться о нее головой.