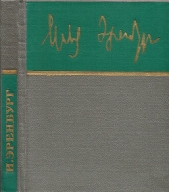Еврейский камень, или собачья жизнь Эренбурга

Еврейский камень, или собачья жизнь Эренбурга читать книгу онлайн
Собственная судьба автора и судьбы многих других людей в романе «Еврейский камень, или Собачья жизнь Эренбурга» развернуты на исторической фоне. Эта редко встречающаяся особенность делает роман личностным и по-настоящему исповедальным.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Подумалось: может, плюнуть на университет и дернуть прямо отсюда на вокзал? Чего они присыкались? Не предлог ли выбрали? Кражу там какую-нибудь или порчу раритетов? Из кабинета директора под белы рученьки и в воронок. Гебисты, небось, заждались. Профессора Ярошевского взяли прямо на выходе из конференц-зала Киевского университета, где проходило заседание расширенного — с участием представителей ЦК КП(б)У — ученого совета. Правда, я птица маленькая, чтобы меня брать в библиотеке, невысокого я птица полета, но чего на свете не случается?! Может, я им кажусь именно большой птицей? С другой стороны, директор носит знаменитую в Сибири фамилию — Наумова-Широких, и слава о ней идет добрая. Университетский народ отзывается в превосходной степени. Не станет она пачкаться, разрешив взять за шкирки студента у себя на рабочем месте. Не Маленков же она Георгий Максимилианович, чтобы сдавать людей из рук в руки в собственном кабинете.
Вхожу, однако, чуть жив, коленки не унимаются, трясутся, голова кружится, а мысль не оставляет: чего они ко мне присыкались?
За обширным пустынным столом, в золотистой мореного дуба глубине, сидит благообразная старушенция и радостно здоровается первой:
— Здравствуйте, здравствуйте, благодарю, что зашли, присаживайтесь. Я задержу вас ненадолго, — стелет она аккуратненько и мягко.
От сердца чуть отлегло, правда, митральный клапан, или как он там называется, продолжает прыгать и хлопать. Сажусь на краешек его-то и, не отклоняясь, смотрю как баран в лоб на директора — жду, что дальше судьба подкинет, в какой лабиринт заведет.
— Расскажите немного о себе. Чем увлечены? Какое чтение предпочитаете? Как вам нравится наша библиотека? Вы приезжий, если не ошибаюсь?
Ну, я начал с конца и пустился в дифирамбы. Смотрю, Наумова-Широких улыбается и щурит светлые глазки. Я калач тертый и воробей стреляный. Отлив в бронзе положенное, перехожу к собственной сомнительной биографии и еще более подозрительным интеллектуальным интересам, напирая на то, что они сугубо литературные и в меру исторические. Наумова-Широких терпеливо слушает вранье, покачивая седоватой, в букольках, головой. Производит она весьма приятное, не директорское, а скорее домашнее впечатление. Сейчас, ей-богу, начнет угощать чайком, что после Жениного бутерброда было бы вполне уместно, да еще бы — с вишневым вареньем. Но внезапно, использовав паузу, она строго спросила:
— Вы Достоевского за что любите?
— Не то чтобы люблю, — по привычке осторожно начал я, — но преклоняюсь как перед классиком. Мало еще читал: с «Неточной Незвановой» и «Бедными людьми» ознакомился в школе.
Произношу фразы с простецкой интонацией, бюрократизированные. Однако дураков надо искать, видимо, в другом месте. Наумова-Широких продолжает довольно строго взирать на меня:
— Это хорошо, что вы ознакомились…
В ее словах я почуял иронию.
— По-моему, Достоевский не включен в обязательную программу? А вы просите выдать «Дневник писателя» за 1877 год, кажется, и роман «Бесы». Я полагала, что студенты первого курса далеки от проблематики и романа «Бесы», и «Дневника писателя». Не так ли?
Старушенция хоть и располагающая, но первое впечатление всегда обманчиво. Взяла она в оборот меня, бедолагу, как следователь Порфирий — забыл тогда, в кабинете, отчество, а имя, кажется, не переврал — Родю Раскольникова. Нет, от нее не ускользнешь. Она что-то почуяла. «Бесы» могли проскочить, а вот с «Дневником» подзалетел. Не надо было сразу подавать требования, густо очень, дымом потянуло — дыма-то без огня не бывает. Вот и влип.
Что там, в «Бесах», Федор Михайлович особого накалякал? Почему она всполошилась? Зачем мне этот чертов Ставрогин? Вместе с Володей Сафоновым и даже отцом Жени? За что я теперь отдуваюсь? О «Бесах» я знал только две вещи. Первая заключалась в том, что в романе великий и нелюбимый Лениным писатель — архибольной вдобавок! — пытался опорочить революционное движение, растоптав «Народную расправу» во главе с Сергеем Нечаевым, портрет которого — с усиками и в косоворотке — красовался в учебнике истории рядом с Ткачевым. Во-вторых, я помнил, что там действует аристократ Николай Ставрогин, злая пародия не то на Спешнева, не то на Бакунина. Спешнев — петрашевец, и Достоевский — петрашевец, следовательно, скорее прототипом послужил Спешнев. О зверском убийстве Иванова — Шатова, о Петре Верховенском и его батюшке, о фон Лембке и прочих персонажах — капитане Лебядкине, хромоножке Марье Тимофеевне и Федьке-каторжном — я не имел никакого представления, поелику «Бесов» не открывал. Фамилию Ставрогина я выудил из отчетов в старых — довоенных — журналах, вокруг отражения в эренбурговском «Дне втором» стройки в Кузнецке. Володю Сафонова упорно называли там ослабленным Ставрогиным. Я был уверен по наивности, что диссертация у меня в кармане. Но как приступить уже сейчас к ее написанию и как утвердить или опровергнуть версию о связи художественного образа из «Дня второго» с характером Николая Ставрогина, если не изучить текст «Бесов»?
Несмотря на возникшую к Наумовой-Широких симпатию, я воздержался от правдивого признания причины, по которой заинтересовался полузапрещенным романом Федора Михайловича. Привыкнув к лавированию, я бодро произнес:
— В «Бесах» Достоевский использовал эпиграф из Пушкина. Я очень люблю Пушкина. Вот мне и хочется уяснить: какая связь между пушкинскими бесами и бесами Достоевского.
Невольно я бросил взгляд в окно. Снегопад, который баламутили бесы, стих. Буря, видно, улеглась. Из-под полуприкрытых век на меня взирали два умненьких глаза, взирали доброжелательно, без недоверия или желания поймать на неискренности. В тот момент я вспомнил Ирину Николаевну — библиотекаря, которой на первых порах понравился Володя Сафонов. Неужели Эренбург вывел в романе теперешнего директора библиотеки, и она сидит передо мной, а я перед ней — в похожей роли персонажа из «Дня второго»? События повторяются один к одному. Это, братец, такое, подумал я, чего вообще в жизни не случается — лишь в сказках про Иванушку-дурачка. Это уже не кандидатская диссертация, пропело в душе, а докторская! Я буду самым молодым доктором филологических наук в Советском Союзе! Я родился под счастливой звездой! Опьяненный бредом, я тупо и молча смотрел на директора с каким-то неизъяснимым чувством. Коленки перестали дрожать, зато в бедной головке ничего не прояснялось. Я действительно стал в тот момент персонажем — но не Эренбурга или Достоевского. Скорее я напоминая Поприщина из гоголевских «Записок сумасшедшего».
— Хорошо, — сказала Наумова-Широких и ласково, насколько позволяла морщинистая кожа, улыбнулась. — Идите в читальный зал. Я распоряжусь, чтобы вам выдали роман Достоевского. Однако имейте в виду, что роман «Бесы» не входит в список рекомендованной литературы. Вы поняли меня?
Конечно, я ее понял. Она не поверила ни единому слову. Она просто вступила со мной в заговор, в стачку. Она убедилась, что я лгу, но подумала, что у меня есть особые и уважаемые причины интересоваться «Бесами».
Возникла твердая уверенность, что Наумова-Широких и Ирина Николаевна, созданная воображением Эренбурга, одно и то же лицо. Диссертация приобретала конкретные очертания. Близость с Поприщиным усиливалась. Сегодня я не имею возможности проверить былую догадку. Нужно произвести слишком большой объем работы, на что нет ни жизненного времени, ни средств. А хорошо бы узнать поточнее! Внутренняя убежденность поддерживается мыслью, что Ирина Николаевна поступила бы точно так, как Наумова-Широких. Она не стала бы совать палки в колеса.
— Всего вам доброго, молодой человек с трудной фамилией. Всего вам доброго, — повторила она.
Я поднялся, попрощался и, пятясь задом, выбрался из кабинета. Ликование в душе отсутствовало. Еще с десяток минут назад я готовился к самому худшему, а сейчас вместо того чтобы радоваться и славить Господа Бога — в сердце абсолютная гулкая пустота. Митральный клапан замер, и ничего в груди не ухало. Я кинулся в туалет умыться. Когда я возвратился на выдачу, «Бесы» уже ждали меня в поляковском зелененьком плотном переплете. Я взял том дрожащими руками, подложил вниз под стопку книг и отнес на излюбленное место. Здесь когда-то сиживал отец Жени. В погожую погоду сноп света превращал пространство в магический кристалл. Сразу я не сумел заставить себя раскрыть книгу. Только на другой день я погрузился в пучину, состоящую из пожелтевших страниц и крупного четкого — дореволюционного — шрифта. И, погрузившись в эту бурю страстей и теней, я принялся в каждом герое искать его прообраз, мало что зная из истории, путаясь и страдая от этой путаницы. Очень скоро я ощутил, что в глубине сцены живут и действуют прообразы Достоевского, целый мир прообразов, а не скудноватый край, как у Эренбурга. Их мир до конца непознаваем. Тайну расшифровки унес с собой великий писатель.