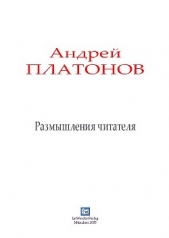В мир А Платонова - через его язык (Предположения, факты, истолкования, догадки)

В мир А Платонова - через его язык (Предположения, факты, истолкования, догадки) читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
"...Дух человека свободен , а его низшая, чувственная душа подчиняется законам причинности.
Считается невозможным восстановление и Воскресение тел, совершенно уничтоженных тлением, или сгоревших, превратившихся в прах и газы, разложившихся на атомы.
Но если при жизни тела дух был теснейшим образом связан с ним, со всеми органами и тканями, проникая все молекулы и атомы тела, был его организующим началом, то почему должна навсегда исчезнуть эта связь после смерти тела? Почему немыслимо, что эта связь после смерти сохранилась навсегда, и в момент всеобщего Воскресения по гласу трубы архангеловой восстановится связь бессмертного духа со всеми физическими и химическими элементами истлевшего тела...?" (Войно-Ясенецкий 1923-1925: 147).
Сии размышления, мне кажется, вполне созвучны как федоровской утопии, так и собственному проекту Платонова.
В несколько ином ключе представляет эту же мысль и о. Павел Флоренский, пересказывая в письме В.И.Вернадскому теорию сфрагидации (или наложения своих особенных знаков душою на вещество тела) - у Григория Нисского:
"Согласно этой теории индивидуальный тип - eksbos - человека, подобно печати и ее оттиску, наложен на душу и на тело, так что элементы тела, хотя бы они и были рассеяны, вновь могут быть узнаны по совпадению их оттиска sfragis - и печати, принадлежащей душе. Таким образом, духовная сила всегда остается в частицах тела, ею оформленного, где бы и как бы они ни были разделены и смешаны с другим веществом. Следовательно, вещество, участвовавшее в процессе жизни, и притом жизни индивидуальной, остается навеки в этом круговороте, хотя бы концентрация жизненного процесса в данный момент и была чрезвычайно малой" (Флоренский 1929: 164).[98]
Размышления на ту же самую тему вообще можно встретить у самых разных мыслителей. Вот, например, взгляд, изложенный в трактате о четырех типах любви Клайва Стейплза Льюиса (написанный около 1958-го года). Примечательно, что Льюис исходит из того, что любовь-дружба (в идеальном смысле) такова, что любящий не нуждается в теле любимого, причем даже, так сказать, и в сам(м "расширенном теле" (состоящем из его родных, связей, службы, положения в обществе и т.п. - каковые могут быть важны для других видов любви). Всем любящим этим видом любви, считает Льюис, необходимо что-то иное: друзья могут даже не смотреть друг на друга, пишет он, что не значит, что они друг друга не видят и не любят. Такая - истинная, по Льюису, - любовь-дружба бескорыстна, не ревнива и вместе с тем "аддитивна", то есть свободна к присоединению новых членов (Льюис называет ее "транзитивной", доступной для передачи другому). Она не убывает от того, например, что один из двух друзей А или В вовлекает в дружбу еще и кого-то третьего, С. Наоборот, дружба от этого как будто прибывает, и когда один из компании умрет, оба оставшихся потеряют не только самого умершего С, но и "его долю" в каждом другом - долю С в А и долю С в В (Льюис: 124-126).
А вот и соображения этого - в чем-то очень близкого Платонову, хотя безусловно неизвестного ему автора на возможность встречи душ - на том свете. Мне кажется, их следует воспринимать как прямо вытекающие именно из очерченных выше его взглядов на любовь:
"В Царствие войдет лишь то, что ему соответствует. Кровь и плоть, просто природа, Царствия не наследуют. В моей любви к жене или другу вечно лишь преображающее их начало. Только оно восставит из мертвых все остальное.
Богословы иногда задавались вопросом, узн(ем ли мы друг друга в вечности и сохранятся ли там наши земные связи. Мне кажется, что это зависит от того, какой стала или хотя бы становилась наша любовь на земле. Если она была только естественной, нам и делать нечего будет с этим человеком. Когда мы встречаем взрослыми школьных друзей, нам нечего с ними делать, если в детстве нас соединяли только игры, подсказки и списывание. Так и на небе. Все, что не вечно, по сути своей устарело еще до рождения" (там же: 145).
И все же можно возразить: "Христианское учение... утверждает с исключительной силой принцип телесности как неотъемлемой, онтологически неустранимой из естества человека функции личности. В воскресении, конечно, восстает личность с рядом изменений ("сеется тело душевное, восстает тело духовное"), но это та же личность, какая была на земле до смерти - в ее единичности и неповторимости, в ее своеобразии. Все то в жизни на земле, что связывает себя с вечностью, что получает печать вечности, все восстает в воскресшем человеке; смерть поистине является неким сном, злым отнятием тела от души - и когда приходит воскресение, тот же человек оживает, чтобы в новой жизни, в преображенном своем естестве завершить и укрепить то, что начато было до смерти" (Зеньковский: 83).
Таким образом, данная загадка либо вообще для человека непостижима, либо - как считает Платонов - ее решение можно попытаться "вынудить", вырвать у природы силой.
Любовь и душа
Любовь часто предстает у Платонова как болезнь плоти, просто ищущая своего "разрешения". При этом реальный объект страсти и его образ в душе человека, испытывающего любовные муки, совсем не обязательно совпадают, они часто совершенно рассогласованны - и во времени, и в пространстве.
Здесь можно вспомнить хотя бы ту заочную любовь, любовь "задним числом", которую испытывает степной большевик Степан Копенкин - к Розе Люксембург (ведь об этой немецкой коммунистке, по логике вещей, он мог услышать только после ее гибели).
Да вот и раненый Александр Дванов, скрываясь от своей идеальной любви (к учительнице, девушке Соне Мандровой), ночью, в бреду уходит из дома, чтобы искать социализм, которого нет нигде вокруг. После долгих странствий он оказывается на печи у солдатки-вдовы, Феклы Степановны, где расходует свою идеальную страсть (к Соне и, соответственно, к революции) - во вполне материальном плотском тепле вдовьей постели, в результате чего, будто очнувшись, излечивается, чтобы ехать вместе с Копенкиным - в Чевенгур и делать там уже окончательный коммунизм.
В следующем ниже (довольно часто цитируемом) отрывке в едином смысловом пространстве души одновременно сходятся образные представления: сердца, механического двигателя, сторожа души человека, птицы, вылетающей из клетки (которую сторож хотел уберечь, но затем и эта птица превращается или оставляет после себя только) - раны на теле:
Его сердце застучало, как твердое, и громко обрадовалось своей свободе внутри. Сторож жизни Дванова сидел в своем помещении, он не радовался и не горевал, а нес нужную службу. Сам Дванов не чувствовал ни радости, ни полного забвения: он все время слушал высокую точную работу сердца. Но вот сердце сдало, замедлилось, хлопнуло и закрылось, но уже пустое. Оно слишком широко открывалось и нечаянно выпустило свою единственную птицу. Сторож-наблюдатель посмотрел вслед улетающей птице, уносящей свое до неясности легкое тело на раскинутых опечаленных крыльях. И сторож заплакал он плачет один раз в жизни человека, один раз он теряет свое спокойствие для сожаления.
Ровная бледность ночи в хате показалась Дванову мутной, глаза его заволакивались. Вещи стояли маленькими на своих местах, Дванов ничего не хотел и уснул здоровым.
До самого утра не мог Дванов отдохнуть. Он проснулся поздно, когда Фекла Степановна разводила огонь под таганом на загнетке, но снова уснул. Он чувствовал такое утомление, словно вчера ему была нанесена истощающая рана (Ч).
Зачем, казалось бы, бежать от уже, казалось, настоящей и почти обретенной Двановым любви к Соне (в родной деревне, в доме приемного отца, Захара Павловича), чтобы потом "разменивать" ее - на печи у (первой встреченной) солдатской вдовы? Только для того, чтобы эта истинная сердечная привязанность - не помешала участвовать в "главном деле его жизни", т.е. в поисках пути к коммунизму? (Вспомним напутствие умершего отца Саше Дванову, услышанное последним как будто во сне, на могиле отца: "Делай что-нибудь в Чевенгуре, - здесь нам будет скучно лежать".) Ради этого и может быть оставлено все личное, и даже само безвыходное небо родины. Своим физическим соединением с Феклой Степановной Дванов избавляется от груза плотского чувства: этим как бы просто высвобождается ненужная, только мешающая энергия. Это, так сказать, "наименьшее зло" по отношению к идеалу. Тем же актом как бы приносится и жертва самой любви Дванова к Соне (Вы - сестры! восклицает он в пылу страсти).