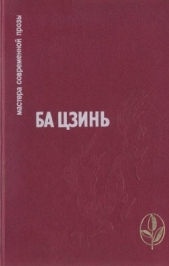Литературные зеркала
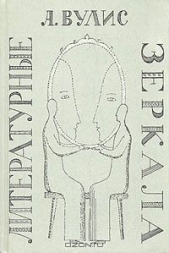
Литературные зеркала читать книгу онлайн
Фантастические таланты зеркала, способного творить чудеса в жизни и в искусстве (которое ведь тоже зеркало), отразила эта книга. В исследовательских, детективных сюжетах по мотивам Овидия и Шекспира, Стивенсона и Борхеса, Булгакова и Трифонова (а также великих художников Веласкеса и Ван Эйка, Латура и Серова, Дали и Магритта) раскрываются многие зеркальные тайны искусства.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Впрочем, другие художники тоже пытались — и небезуспешно — решать эту задачу. Правда, менее демонстративно…
Глава IX
«ОСТАНОВИСЬ, МГНОВЕНЬЕ!..»
Эффекты Веласкеса
Допустим одну, как будто вполне правомерную гипотезу: эстетизация зеркала, его претензия на принадлежность к искусству осуществляются в той же образной системе, какую осваивает живопись: в зрительной. Не случайно портрет, воспроизводящий свой объект в натуральную величину, обычно пробуждает представление о зеркале. Собственно говоря, он и является как бы моментальной фиксацией зеркального отражения — в масляных, или акварельных, или каких-либо иных красках. Так что и обратный тезис не должен показаться абсурдом: зеркальное отражение — это как бы незапечатленный портрет, неостановленное мгновение. Но в принципе портрет этот вполне может быть запечатлен — и фотографически, и средствами живописи. Причем и зеркало как посредничающее изображение может войти в картину, хотя с тем же успехом может быть опущено (мы говорим о простых случаях, когда художнический замысел не отводит зеркалу никаких особых композиционных заданий).
Итак, зеркало в определенном смысле — картина. Живая, ускользающая, «незаписанная» живопись. И все-таки живопись. И одновременно — все-таки жизнь, то есть невоплощенный объект живописи. Удивительно ли, что у многих художников проявляется обостренное неравнодушие к зеркалу — нечто среднее между мгновенным любопытством и глубоким философским интересом, между вспышкой ревности и озорным пародийным вниманием. К середине нашего тысячелетия, как я уже, кажется, говорил, зеркало завоевывает себе новую географию — и реальную, и условную — на знаменитых полотнах великих живописцев. И вот что характерно: кто из выдающихся мастеров кисти ни обратится к зеркалу — Тициан ли, Ян ван Эйк, Веласкес или Серов, как оно тотчас перерастает узкотематические рамки. Элементарным фактом присутствия в сюжете по соседству с другими деталями художественного целого зеркало резко расширяет пространство авторского замысла и, словно возвысившись через это усилие, отбрасывает прочь скудную одностороннюю утилитарность. Из метафоры искусства, из подражательной парафразы искусства (или из его предмета) зеркало вырастает в искусство.
Но, чтобы это заметить, нужно поймать счастливый момент на той единственной волшебной ступеньке, откуда магический кристалл, воспетый Уэллсом, а после и Борхесом (в рассказе «Алеф») транслирует свои видения-репортажи о великих потайных закономерностях нашей жизни, которые по ходу этой передачи представляются гранями потустороннего мира, царством чудес и невообразимых происшествий.
Мне посчастливилось: этот магический кристалл очутился однажды и в моих руках, и меня осенило поднести его к глазам, и я увидел картины, дотоле никому не ведомые — ну, уж за себя, по меньшей мере, ручаюсь. Впрочем, не забегая вперед, расскажу все по порядку.
…Сами собой в тот миг просились на бумагу слова, напоминавшие по тональности — да и по сути — исповедь. Где-то и когда-то надо было признаться в странном и необъяснимом чувстве, которое охватило меня, когда я впервые — еще в манускрипте, недоступном широкой аудитории (да и аудитории вообще), — дочитывал роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита». А чувство было такое, будто знаменитая картина Веласкеса «Менины» — зримый образ булгаковского романа, а булгаковский роман — поэтическое эхо веласкесовской картины.
Ассоциация сколь неожиданная, столь и неодолимая! И я готов был открыть трактат о композиции «Мастера и Маргариты» изобразительным эпиграфом: репродукцией веласкесовского полотна.
У меня не было при себе никаких альбомов: ни музея Прадо, где хранится знаменитая картина, ни хоть какой-нибудь персональной иллюстрированной монографии о художнике, и я стал импровизировать по мотивам «Менин», что называется, «от фонаря», по принципам свободного полета.
Взаимосвязь Веласкеса и Булгакова — улица с односторонним движением. Булгаков не мог влиять на Веласкеса. Значит, Веласкес влиял на Булгакова. И моя задача, как я ее понимал, состояла в том, чтобы доказать: это взаимодействие «поверх барьеров» не сон, не выдумка, оно существует на самом деле.
Постижение внутреннего начинается анализом внешнего, как лестница начинается с первой ступеньки. Вот так, по ступенькам, мы и будем восходить к «Менинам» и «Венере с зеркалом» Веласкеса, а уже от них к проблеме, которую один теоретик (а может быть, и не один) прямолинейно обозначил по ее сути: «Зеркала Веласкеса».
«Зеркальные» полотна Веласкеса принадлежат к хрестоматийному сонму видений человечества. Попросту говоря, они входят в «десятку» или, по крайности, в «двадцатку» наивысших достижений мировой живописи, тех самых, которые вычисляются с помощью сложных плебисцитов, пресс-конференций и даже многостепенных выборов. Насколько причастны к этому успеху зеркала?
«Натурщица с необычайно изящной, грациозной фигурой полулежит на кушетке… Подперев голову рукой, она повернулась спиной к зрителю. Эта поза придает ее телу… упругий ритм… На ложе… перед Венерой опустился на колени Купидон… Он держит перед ней зеркало в раме из черного дерева, в котором лицо красавицы, однако, проступает настолько неотчетливо, что невозможно установить, какая натурщица послужила художнику моделью…» [32]
Гимнам ослепительному телу возлежащей богини нет ни конца ни края они изливаются на читателя со страниц чуть ли не каждой искусствоведческой трактовки Веласкеса. Посему я воздержусь от монологов по поводу сверкающей серебристой цветовой гаммы, подаренной художником Венере. Зеркало — вот что меня интересует.
Присутствует в картине некая тайна. Чарующая тайна, добавил бы я, кабы не боялся впасть в обычную искусствоведческую истерику у ног этой Венеры. Кажется исчерпывающей, предельной ее красота, пойманная как раз на той ускользающей черте, где плоть столь прекрасна, что возвышается до духовного, а дух так благостен, что снисходит до плоти и отождествляется с ней. У этой красоты отнято лицо (или так: этой красоте недодано лицо). Но потому и тем красота веласкесовской Венеры божественна: ей, этой красоте, достаточно самой себя — и даже с избытком.
Когда же подоспевший Купидон доливает чашу еще неким «сверх», наступает редчайшая минута абсолютной творческой радости, единой для художника, для модели, для зрителя. Ибо зеркало дарует нам не просто лицо ради лица, факт ради факта (дескать, примите к сведению), а живую, капризную, греховную и милую жизнь, подернутую дымкой той недосказанности, каковую прозаики передают многозначительным многоточием.
С помощью зеркала художник раздвигает пространство красоты, как бы предупреждая о всепроницающей власти женственного начала. Зеркало ловит красоту Венеры, как энтомолог — редчайшего мотылька, казалось бы, неуловимого. А Венера открывает новые возможности зеркала. Например, такие: видеть невидимое, отбирать ракурсы, сочетать эти ракурсы во имя неожиданного изобразительного результата.
В «Менинах» Веласкес идет дальше, создавая ситуации, где, во-первых, зеркало как вещь присутствует и где оно, во-вторых, в своем материальном значении исчезает, завещая наблюдателю самый принцип зеркальности, зеркало-предмет получает дополнительную функцию зеркала-приема.
Напомню содержание «Менин».
В центре картины — юная инфанта. К ней с двух сторон склонились фрейлины — «менины». Поближе к краю картины, в группе придворных, — угрюмая малоподвижная карлица, чей ракурс как бы заимствован у царственной девочки, а внешность, наоборот, ей противопоставлена. Спутница инфанты — это и ее двойник, и пародия на нее. В соседстве с карлицей — другой маленький человечек. Этот — сама игра. Три фигуры, расположенные по смежности, соотнесены в психологическом плане как контрастные.
Весь ксилофонный набор авторских оценок — одновременно яркая зрительная гамма. В чьих глазах? Картина отвечает и на этот вопрос. В зеркале, занимающем скромное место на задней стене, отражаются еще какие-то лица. Как говорят знатоки, перед нами Филипп IV и Марианна Австрийская. Королю и королеве отведено пространство в «Зазеркалье». Наблюдатели? Объект наблюдения? Так или иначе их присутствие влияет на жизнь: глаза персонажей, собранных посредине, не просто обращены к монарху и его супруге, а буквально зачарованы их августейшим наличием. Филипп IV, которого как бы и вовсе нет на полотне, оказывается на том же полотне главным.