Публицистика 1918-1953 годов
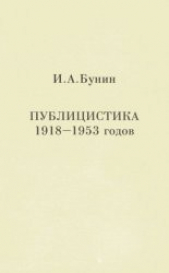
Публицистика 1918-1953 годов читать книгу онлайн
Книга включает в себя все выявленные на сегодняшний день тексты публицистических статей И. А. Бунина за период с 1918 по 1953 год. В большинстве своем публицистика И. А. Бунина за указанный период малоизвестна и в столь полном составе публикуется у нас впервые. Помимо публицистических статей И. Бунина в настоящее издание включены его ответы на анкеты, письма в редакции, интервью, представляющие как общественно-политическую позицию писателя, так и его литературно-критические высказывания.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Затем что еще? Вспоминаю уже не подражания, а просто желание, которое страстно испытывал много, много раз в жизни, желание написать что-нибудь по-пушкински, что-нибудь прекрасное, свободное, стройное, желание, проистекавшее от любви, от чувства родства к нему, от тех светлых (пушкинских каких-то) настроений, что Бог порою давал в жизни. Вот, например, прекрасный весенний день, а мы под Неаполем, на гробнице Вергилия, и почему-то я вспоминаю Пушкина, душа полна его веянием — и я пишу:
А вот другая весна, и опять счастливые, прекрасные дни, а мы странствуем по Сицилии… При чем тут Пушкин? Однако, я живо помню, что в какой-то связи именно с ним, с Пушкиным, написал я:
А вот Помпея, и опять почему-то со мною он, и я пишу в воспоминание не только о Помпее, но как-то и о нем:
А вот лето в псковских лесах, и соприсутствие Пушкина не оставляет меня ни днем, ни ночью, и я пишу стихи с утра до ночи, с таким чувством, точно все написанное я смиренно слагаю к его стопам, в страхе своей недостойности и перед ним, и перед всем тем, что породило нас:
А вот изумительно чудесный летний день дома, в орловской усадьбе. Помню так, точно это было вчера. Весь день пишу стихи. После завтрака перечитываю «Повести Белкина» и так волнуюсь от их прелести и желания тотчас же написать что-нибудь старинное, пушкинских времен, что не могу больше читать. Бросаю книгу, прыгаю в окно, в сад и долго, долго лежу в траве, в страхе и радости ожидая того, что должно выйти из той напряженной, беспорядочной, нелепой и восторженной работы, которой полно сердце и воображение, и чувствуя бесконечное счастье от принадлежности всего моего существа к этому летнему деревенскому дню, к этому саду, ко всему этому родному миру моих отцов и дедов и всех их далеких дней, пушкинских дней… Вышли стихи: «Дедушка в молодости»:
«Каково было вообще его воздействие на вас?» Да как же это учесть, как рассказать? Когда он вошел в меня, когда я узнал и полюбил его? Но когда вошла в меня Россия? Когда я узнал и полюбил ее небо, воздух, солнце, родных, близких? Ведь он со мной — и так особенно — с самого начала моей жизни. Имя его я слышал с младенчества, узнал его не от учителя, не в школе: в той среде, из которой я вышел, тогда говорили о нем, повторяли его стихи постоянно. Говорили и у нас, — отец, мать, братья. И вот одно из самых ранних моих воспоминаний: медлительное, по-старинному несколько манерное, томное и ласковое чтение матушки: «У лукоморья дуб зеленый, златая цепь на дубе том…», «Не пой, красавица, при мне ты песен Грузии печальной…». В необыкновенном обожании Пушкина прошла вся ее молодость, — ее и ее сверстниц. Они тайком переписывали в свои заветные тетрадки «Руслана и Людмилу», и она читала мне наизусть целые страницы оттуда, а ее самое звали Людмилой (Людмилой Александровной), и я смешивал ее, молодую, — то есть воображаемую молодую, — с Людмилой из Пушкина. Ничего для моих детских, отроческих мечтаний не могло быть прекрасней, поэтичней ее молодости и того мира, где росла она, где в усадьбах было столько чудесных альбомов с пушкинскими стихами, и как же было не обожать и мне Пушкина, и обожать не просто, как поэта, а как бы еще и своего, нашего?
— «Вчера за чашей пуншевою с гусаром я сидел…» — с ласковой и грустной улыбкой читала она, и я спрашивал:
— С каким гусаром, мама? Дядя Иван Александрович тоже был гусар?
— «Цветок засохший, безуханный, забытый в книге вижу я…» — читала она, и опять это чаровало меня вдвойне: ведь я видел такой же цветок и в альбоме бабушки Анны Ивановны…


























