Публицистика 1918-1953 годов
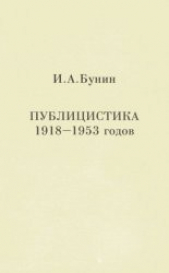
Публицистика 1918-1953 годов читать книгу онлайн
Книга включает в себя все выявленные на сегодняшний день тексты публицистических статей И. А. Бунина за период с 1918 по 1953 год. В большинстве своем публицистика И. А. Бунина за указанный период малоизвестна и в столь полном составе публикуется у нас впервые. Помимо публицистических статей И. Бунина в настоящее издание включены его ответы на анкеты, письма в редакции, интервью, представляющие как общественно-политическую позицию писателя, так и его литературно-критические высказывания.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Прошлым летом, когда у чрезвычайки сменяли караул, музыка играла «Интернационал». И многие дивились и ужасались:
— Вы подумайте! Интернационал — и чревычайка!
А чего же тут было дивиться? Ведь чрезвычайка неразрывна, единоутробна с этим адовым гимном, с самой сутью тех окаянных душ, что образовали уже гигантскую шайку чрево-потрошителей, взявших подряд на устроение блага человечества, монополию на «беззаветную любовь к народу».
Человек, который умер от страха *
Ленотр предпосылает своему рассказу об этом человеке картину того, что происходило в Тюильрийском дворце 10 августа 1792 года.
После полудня 10 августа, говорит он, когда пушки обратили в бегство его последних защитников, революционный Париж, охваченный безумным любопытством, устремился взглянуть на свою победу и достойно отпраздновать ее.
Зрелище получилось замечательное: в огромном вестибюле — лужи кровавой грязи, по которой шлепает толпа, устремляющаяся внутрь дворца; на парадной лестнице — трупы швейцарцев, через которые с хохотом и визгом, задирая юбки, перепрыгивают женщины; в галереях следующего этажа — крик, песни и пляс, тучи пыли от сдираемых ковров и треск зеркал, которые победоносный народ дробит для потехи дубинками; в одном месте обжираются вареньем, в другом льют на себя духи, в третьем раздевают догола убитых и придают им смехотворные и бесстыдные позы; какая-то дама играет, как на арфе, на струнах раскрытого фортепьяно, клавиши которого уже вдребезги разбиты, какой-то молодой человек, возбуждая восторг окружающих, наполнил драгоценным старым вином ночной горшок и взасос опорожняет его… И все ширится оргия: толпа все гуще валит по лабиринту сумрачных коридоров, жадно заглядывает во все закоулки, берет приступом баррикады из матрасов, хрустит, наступая на черепки посуды, на битое стекло, вламывается в жилые покои… А в окна видны гигантские языки пламени, которыми уже пылают соседние дворцовые корпуса, а из верхних этажей дворца густыми облаками несется пух из тысячи распоротых перин, подушек и валиков…
До вечера 12 августа Париж ходил во дворец, как на ярмарку, говорит Ленотр. Но вот все, что было можно, исковеркали и растащили; мертвых убрали, пожары потухли, пух перестал летать — и Париж потерял интерес ко дворцу. Поставили часовых у ворот и вздумали составить опись наиболее ценных вещей и заняться розыском важнейших документов, связанных с преступностью свергнутого режима. Во дворце появились новые жильцы.
Первый, кто поселился в нем после Людовика XVI, был Брусо, темная личность из бывших актеров, друг Колло Эрбуа, который откровенно заявил еще 10 августа:
— Ну, теперь каждый из нас вскоре сможет выбрать себе по особняку…
Актер пошел дальше — он выбрал себе просто-напросто дворец и тотчас же перебрался в него и перетащил с собой все свои пожитки, умещавшиеся, к счастью, в одной корзине. А его примеру последовал и еще один скромный гражданин — сапожник Куртуа: этот не только затесался во дворец, но и потребовал, дабы в распоряжение его дочки было предоставлено фортепьяно королевы, что и было немедля исполнено, ибо у сапожника тоже был видный друг: не более не менее, как сам Дантон. А затем Ролан, министр внутренних дел, решил, что совет министров должен реквизировать нижний этаж дворца для своих заседаний. И вот, господа министры стали каждый день являться туда завтракать, пить вино из королевских погребов и чинить производство по вышеупомянутой описи и по розыску.
Производство это установило только то, что во дворце не осталось ни одной цельной вещи, что народ разгромил все, что мог. Однако ограничиться этим было нельзя: город волновался, по городу были пущены обычные революционные слухи, и дворец, «этот старый вертеп тиранов», рисовался народному воображению как место поистине ужасное — с подземными ходами в Версаль, с подземными темницами, полными несчастных узников, стоны которых вопиют к небу. Принялись повсюду шарить — искать этих подземелий, поднимать полы, сверлить стены. Но ни узников, ни подземелий не было — нашли только королевского лакея, который от страха залез еще 1 августа в каминную трубу в гостиной королевы, не мог выбраться назад и умирал от голода. Его подкормили и стали расспрашивать о тайнах «вертепа», и он раскрыл их немало: например, то, что все корсеты Марии Антуанетты были набиты волосом, так как у Ее Величества одно плечо было выше другого…
Но этого было, конечно, недостаточно, особенно для Ролана.
Поиски бумаг королевской семьи должны были продолжаться, и Ролан с ума сошел на мысли во что бы то ни стало найти свои письма к королю. Он с утра до вечера рылся в разных неважных документах, найденных во дворце, лазил по всем столам, тщательно обыскал комнату дофина — и нашел в ящике комода самые обыкновенные ракушки, симметрично разложенные будущим «тираном», да черновик письма: «Мой дорогой папа, я очень рад, что могу пожелать вам счастливого Нового года и сказать, что я люблю вас всем сердцем…»
Что было делать бедному Ролану?
«С утра до вечера шаталась по дворцу эта длинная и унылая фигура, эта озабоченная душа в серых чулках и коричневом плаще, осторожно ступавшая грубыми башмаками». Но поиски ее были тщетны. Марат, «на которого иногда накатывала веселость», пустил слух что 10 августа королева побросала все компрометирующие ее и короля бумаги в какую-то выгребную яму, и Ролан тотчас ухватился за этот слух: два золотаря с завязанными носами и намазанными салом бровями, — такова была тогдашняя профилактика, — стали, по его приказу, рыться в нечистотах, а сам Ролан, тоже с заткнутым носом, жадно перечитывал каждую бумажку, которую доставляли ему они и которую он предварительно опускал в уксус. Однако, и это не помогло: ни писем Ролана, ни документов, на основании которых можно было бы обвинить короля, все не было… Как вдруг судьба смилостивилась над Роланом.
Однажды утром — утром 20 ноября 1792 года — Ролан почти бегом поднялся по главной лестнице дворца в сопровождении какого-то высокого, худого, желтолицего и вообще крайне жалкого человека с провалившимися глазами и скрылся вместе с ним в королевской спальне. Там они заперлись на ключ и долго о чем-то беседовали. Потом потребовали у смотрителя здания щетку и веревок, потом, около полудня, два портфеля… В четверть же третьего Ролан, сияя от плохо скрываемого торжества, явился в Конвент: два портфеля, которые он притащил с собой, были битком набиты бумагами, только что найденными при помощи желтолицего незнакомца в коридорчике, примыкавшем к королевской спальне. И судьба короля была решена. Можно утверждать с большой достоверностью, говорит Ленотр, что без этих бумаг процесс против короля не состоялся бы: решительно не к чему было придраться. А теперь придирки все-таки нашлись. Это он, этот желтолицый человек, отдал в руки палача голову Людовика XVI.
«Он был полное ничтожество во всех смыслах и невероятный трус». Звали его Франсуа Гамэн и занимался он слесарным ремеслом в Версале. И дед и отец его работали при дворце. До революции и сам он бывал там каждый день и был хорошо известен королю, который очень любил его. Когда короля заточили в Тюильри, он стал подумывать о побеге, решил спрятать в надежное место важнейшие документы и послал лакея за Гамэном. Гамэн тайком, черными ходами пробрался во дворец и, вместе с лакеем помог королю выбить нишу в стене коридора и выковать для нее железную дверку. Работа длилась целых три ночи, и наконец документы были спрятаны, ниша была заложена этой дверкой, заперта на ключ и замурована, а Гамэн был отпущен восвояси. Он вернулся в Версаль поздно ночью, никем не замеченный, но у страха глаза велики: Гамэн раздумался и затрепетал от ужаса, что завтра же всем будет известна его помощь преступному королю… И чем дальше, тем хуже пошло дело.
Он и так уже не знал покоя ни днем, ни ночью. Каково же ему было 10 августа, когда он узнал о том, что дворец «стал достоянием народа»! Тут он совершенно сошел с ума, бросил пить, есть, работать и все только расспрашивал кого попало, жив ли лакей, водивший его во дворец, будут ли дворец обыскивать, ломать его стены. Он раз десять приходил в Париж с целью чистосердечно покаяться кому следует насчет того, в чем он должен был участвовать по приказу короля, и каждый раз возвращался домой, не исполнив своего намерения, не собравшись с духом. Наконец, пронеслась самая страшная для него весть: короля будут судить, дворец обыскивают! Гамэн заметался в предсмертной тревоге: бежать, бежать, вон из Версаля и даже из Франции! Но как и куда бежать бедному человеку? Чем он будет питаться в эмиграции? И Гамэн с мужеством отчаяния кинулся в Париж с доносом, к Ролану…


























