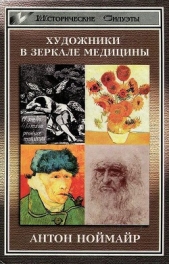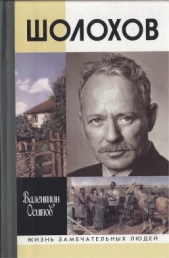Художники

Художники читать книгу онлайн
Свою книгу С. Дангулов назвал "Художники". Эта книга о мастерах пера и кисти. Автор словно вводит читателя в портретную галерею: М. Шолохов и А. Гончаров, Н. Тихонов и Кукрыниксы, М. Шагинян и В. Мухина, К. Симонов и Е. Кибрик, Р. Гамзатов и Н. Жуков... Здесь же портреты зарубежных мастеров - французского писателя Труайя и япопского архитектора Танге, итальянского писателя Дзаваттини и венгерского скульптора Маргариты Ковач. Книга воссоздает жизнь художника, его своеобычное, его новаторское существо. Автор раскрывает взаимосвязь искусств, их взаимовлияние, их взаимообогащение.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
И в заключение мы хотели возвратиться к циклу поэта о благодатном апреле. Всем кугультиновским замыслам свойственны глубина и поступательность, идущая издалека и неотвратимо нарастающая, как сказал бы поэт, многоступенчатость.
Апрель в степи душист и светел,
Он — словно жаворонки трель...
Но нынче я средь степи встретил
Совсем особенный апрель...
В нем запах трав и шум широкий,
Весны обычной строй и лад
И мировой весны истоки.
Родившейся сто лет назад...
Так вот куда ведет кугультиновский замысел о степном апреле! Нет, апрель не просто отвлеченный символ пробуждения, не только знак обновления жизни, но и символ революционной нови, живым олицетворением которой является великий учитель:
Мне представляется Река Времен,
В часы, когда я думаю о нем,
Когда его портрет со мною рядом,
Она взлетает, падает каскадом,
То бешено ликуя меж камней,
То с плачем силясь разорвать границы,
А он всю мудрость, что сокрыта в ней,
Вбирает, не утратив ни крупицы.
Все достиженья смелого ума
Постигнув и найдя меж ними звенья,
Он, Ленин, — мудрый, точно жизнь сама...
Да, мудрый, точно жизнь, мудрый и воодушевленный трудом преобразования, — вот суть кугультиновского цикла о революционной весне, шествующей по земле. Стоит ли говорить, как характерно, что у этого цикла такой зачин и такой венец, — на ваш взгляд, здесь весь Кугультинов.
Велик и многообразен мир кугультиновской поэзии. Большой мир, хотя Калмыкия, быть может, и не столь велика. Но, войдя в нашу жизнь, поэт точно и Калмыкию сделал больше, — вот она, сила поэта. Но поэт в пути, и песня его в пути. Тот, кому ведом мир кугультиновской поэзии, убежден: поэт принес нам еще не все свои дары. У поэзии Кугультинова неоскудевший источник — сердце поэта.
Я руку к сердцу приложил, подумал,
Кто там стучит? Не ты ли, песнь моя,
Рождаясь в мир, еще некрепким клювом
Стучишь из скорлупы небытия?
Как ни многотрудна была жизнь, поэт возобладал — его муза набиралась сил вместе с сердцем.
КЕРАШЕВ
Убежден, что Керашев очень большое имя не только для тех, кто считает родным языком адыгейский, — а их семья сегодня велика, — но и для тех, кто таким языком считает, например, русский, узбекский, грузинский. Это тем более верно, что Керашев, конечно, глубоко адыгейское явление. Нет, я говорю не только о картинах жизни и характерах героев, на которых он остановил наше внимание, у него, как мне кажется, система видения адыгейская, как, впрочем, строй лексики, колорит произведения, его краски. Наверно, и Керашев утвердил своей жизнью в искусстве истину: чем художник ближе к первоистокам народа, тем он, художник, могучее. Однако что есть эта мощь всепокоряющая, если не язык, в данном случае язык адыгов? Емкость, столь свойственная адыгейскому языку, как и его меткость, сделавшая язык крылатым, были взяты на вооружение писателем и истинно окрылили его книги.
Пусть мне будет разрешено сказать в двух словах о мире, который был рядом со мной в постижении Адыгеи и Керашева, — хочу думать, что это имеет отношение к существу нашего разговора. Мой отчий Армавир говорил по-адыгейски. Насколько я понимаю, это был язык юго-восточной Адыгеи, а значит, и керашевского Кошехабеля. Адыгейцы, бывавшие в моем родительском доме, изъяснялись с моей семьей на том самом адыгейском, на каком они говорили в своих семьях. Первые сказки, которые восприняла память, были мне рассказаны по-адыгейски. Правда, бабушка происходила из Кабарды, и некоторых слов я не понимал, поэтому рядом сидела мама. Ее адыгейским восхищались наши гости, приезжавшие из соседних аулов — Коноковского и Урунского. Мать знала историю Адыгеи и высоко почитала доблесть народа. Помню, как она пела адыгейскую песню о ветре, который мчит по морю корабль с гонимыми... Это была необыкновенная песня о родине и чужбине, — когда мать пела, в ее глазах стояли слезы... Эта песня, которую я воспринял из уст матери, многое мне объяснила. Она как бы воссоздавали те не столь уж отдаленные времена, когда мир моих близких был частью мира адыгов. Это было именно так, и быт Армавира сберег следы общности. Это, конечно, был адыгейский быт. Все адыгейское: уклад жизни, система отношений в семье и за ее пределами, одежда, стол... И самое главное: язык. Не знал человека из моих близких, кто бы не гордился своим адыгейским. Мать любила говорить с адыгейцами, любуясь, как она отмечала, «их красноречием». Повстречав адыгейцев, могла принести пословицу: «Человек стоит столько, сколько видят его глаза». Или: «Сделай добро и брось в воду». Помню, как звали из семьи в семью ученого-лингвиста Н. Яковлева, работавшего над грамматикой адыгейского языка, не минув и вашего дома, — Армавир, с его устоявшимся бытом, сберег такое, что мог сберечь только он. Говорю об этом столь подробно, чтобы объяснить свое отношение к Адыгее: для меня это отчее.
Впервые керашевскую книгу мне показала мать — она любила книги Керашева. Вначале это была «Дорога к счастью», которая впервые стала известна читателю под именем «Шамбуль», потом «Дочь шапсугов». Как я писал уже однажды, «Дорога к счастью», прежде чем попасть в наш дом, обошла много армавирских домов. Это было в самом начале тридцатых — в домах плохо топили. Бумага потемнела и взбугрилась, но книга от этого не стала менее читаемой. Мать сидела над книгой по ночам. Нередко при свете керосиновой лампы — за полночь отключали свет. Проснувшись, я заставал ее у лампы — книга лежала в поле света. «Мне надо было бы прочесть Керашева по-адыгейски...» Она произносила это не без боли — наши знали устный, адыгейская грамота была неведома. «Дочь шапсугов» обошла едва ли не весь Армавир. Листая посвященный Керашеву альбом, который земляки писателя выпустили для учителей, — кстати, хороший альбом, — я опознал «огоньковское» издание с портретом Тембота Магометовича — оно было и в нашем доме. Помню, диалог Гулез и княжича был прочитан вслух: «Я, ничтожное существо, лишь соблюдаю законы своего народа. Народ шапсугов ставит человеческое достоинство выше княжеского».
Конечно, воздействие керашевского слова на читателей, которых я наблюдал в родном Армавире, объяснялось тем, что тут было близкое, адыгейское. Но это следует признать лишь первопричиной, заставившей взять книгу в руки. Суть была в ином: в самих достоинствах письма, в том, как были написаны картины жизни, как вылеплены характеры, как воссоздан диалог, в какой мере значительна мысль, к которой обратился писатель. В свете сказанного хотелось отметить главное: в высшей степени поучительно воссоздать грани личности писателя, человеческой и писательской.
Среди тех книг, которые были в скромной библиотеке моего родительского дома, одной из самых любимых был однотомник адыгейских сказок, переведенный на русский Павлом Максимовым. Сказки производили впечатление силой мысли и, пожалуй, изысканностью литературной формы. Чтобы в сказке так соотнеслись ее компоненты и сам сюжет достиг такого совершенства, она, эта сказка, должна быть пересказана тысячи и тысячи раз. А уже это говорит о возрасте сказки, а значит, и немалом числе лет, которыми измеряется путь, пройденный народом. Если такой взыскательный знаток фольклора, каким был М. Горький, обратил внимание именно на адыгейские сказки, они должны быть очень хороши. Именно в этом случае Горький заметил, что сказки древнее известных образцов церковной литературы. Высоко оцепив сказку о «Мулле-колдуне», Горький говорит: «У нас есть основание думать, что «святые чудотворцы» церкви сочинялись именно по сказкам того типа, как сказка о мулле». Горький, судя по тексту, имеет в виду церковную литературу христиан, но это правило верно и применительно к другим церквам. «Адыгейские сказки, судя по этим образцам, весьма интересны и ценны общностью своих мотивов со сказками других народов», — отмечает Горький. Не помню, было ли в однотомнике оговорено участие Тембота Керашева и его друга И. Цея, собравших эти сказки, но тогда по незнанию я считал книгу только максимовской. Сейчас вижу, что книга эта сотворена в немалой степени Темботом Керашевым. Полагаю, что это обстоятельство тем более важно, что в нем как бы спроецировалась писательская биография Керашева и многие из его достоинств, сказавшиеся в таких его книгах, как «Дорога к счастью», «Состязание с мечтой», «Дочь шапсугов», «Куко», — я говорю о книгах, которых тогда не было, но которые уже возникали в неблизкой перспективе.