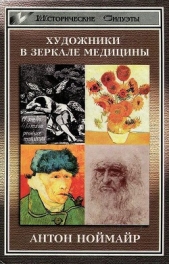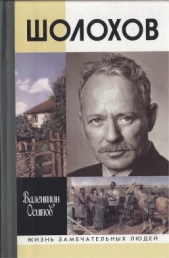Художники

Художники читать книгу онлайн
Свою книгу С. Дангулов назвал "Художники". Эта книга о мастерах пера и кисти. Автор словно вводит читателя в портретную галерею: М. Шолохов и А. Гончаров, Н. Тихонов и Кукрыниксы, М. Шагинян и В. Мухина, К. Симонов и Е. Кибрик, Р. Гамзатов и Н. Жуков... Здесь же портреты зарубежных мастеров - французского писателя Труайя и япопского архитектора Танге, итальянского писателя Дзаваттини и венгерского скульптора Маргариты Ковач. Книга воссоздает жизнь художника, его своеобычное, его новаторское существо. Автор раскрывает взаимосвязь искусств, их взаимовлияние, их взаимообогащение.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
КУГУЛЬТИНОВ
В моем родном городе на Кубани, в городе степняков-хлеборобов, был «край» умельцев — эту городскую окраину, сопредельную с кубанской кручей и выгоном, называли «краем». Край был небогат: белостенные хаты под камышом и соломой да редко-редко глинобитные турлучные домики под черепицей. Но край был небогат лишь своим обличьем, на самом деле жил там народ знатный: оружейники и гончары, каменщики и стекольщики, столяры, сапожники и лудильщики, кузнецы и шорники. В этом мире мастеров, чьими руками были возведены все хоромы степного града, вплоть до мануфактурных и москательных лавок, каждая из которых нашему детскому глазу рисовалась государством, жил человек во многом самобытный. Его непохожесть была определена уже его обликом: низкорослый, неширокий в плечах, он не без труда нес свое массивное тело и, казалось, в ходьбе чуть сгибал ноги. У него было темно-коричневое, точно задубленное солнцем лицо в твердых, как орех, скулах и маленькие, с раскосинкой глаза, которые в смехе он жмурил так крепко, что они едва ли не пропадали. А он любил посмеяться. Бывало, взмахнет рукой и, задержав пятерню высоко над головой, скажет: «В два счета я твоего коня на ноги не поставлю, но помочь тебе попробую». Да, я забыл сказать: среди умельцев, где жил Аксен — так звали мастера, — он был умельцем особенным: он чинил не сбрую, а лошадей... Да, он был врачевателем по конской части, при этом не только искусным костоправом. Подвернет лошадь ногу или даже сломает ее на каменистом кубанском броде, он не спешил заряжать винтовку. «В два счета я твоего коня на ноги не поставлю, но помочь тебе попробую...» — это его слова.
К нам в дом Аксена привел случай. В жестоком бою за город отец вынес из кубанского половодья — было это в пору летнего таянья, река стала неоглядной — юнцов красноармейцев, решившихся в полном снаряжении перемахнуть через Кубань. В награду отец получил двух коней, страшно в бою изувеченных. Отец привел коней на рассвете. Помню, как взглянув на коней, мать вскрикнула: «Не показывай детям, не показывай...» Но я все-таки взглянул на коней, взглянул и сомкнул глаза: наверно, то были сабельные удары — там, у Кубани, была сеча свирепая... «Что будешь делать?» — спросила отца мать. «Надо позвать старого калмыка. Если он не поможет...» Отец не договорил, но всем был ясен смысл его слов: если старый Аксен не поможет, то лошадям не жить. Так явился в наш дом Аксен и, осмотрев коней, произнес свою знаменитую фразу: «В два счета я твоих коней на ноги не поставлю...» Помню, что он врачевал раны, накладывая на них повязки, смоченные в дегте, и к осени, когда в степи созрели тонкокожие дыни, на коней впервые надели хомуты. Это явилось чудом и для нас, детей. И не потому, что коней можно было впрячь в добрую молоканскую фуру и отправиться в степь, а потому, что. Аксен заживил на конях эти страшные раны и не дал лошадям погибнуть. Чудо это свершилось у нас на глазах и точно осветило человека добрым светом. Когда Аксен появлялся в доме, мать жарила черкесские пышки «лякуме» и варила калмыцкий чай. «Вначале пришел сюда калмыцкий чай, а потом пришел я...» — говорил Аксен. Мы, дети, смотрели на этого человека издали и вздыхали от восторга. Странное дело, но нам было интересно все в нем: манера жмурить глаза, и покряхтывание, и даже зевок, а когда он начинал говорить, у нас занималось дыхание — истинно, каждое слово было подобно алмазу. По детскому своему неразумению мы тогда не понимали, что за смехом, горестным вздохом и тем более за словом этого человека незримо стоял в наших душах, в нашем ребячьем сознании все тот же его поступок: он не дал нашим лошадям погибнуть. А однажды он подозвал нас и рассказал сказку о лихом коне Джангра, а потом о самом рыцаре Джангре... И это уже было совсем необыкновенно. Степной край, откуда пришел к нам Аксен, вдруг преобразился в нашем сознании. Из пустыни, серой, выкаленной зноем, он превратился истинно в страну обетованную, прибежище фантазии...
Я вспомнил эту страничку далекого детства, когда слушал необыкновенно увлекательный рассказ Давида Никитича Кугультинова о Калмыкии. Рассказ этот был непространен, но в нем Калмыкия явилась вся. Воссоздавая этот рассказ, я рискну освободить его от деталей, которые ему сопутствовали, изложив существо — оно весомо. Монголовед Владимирцев, знаток монгольской древности, филолог, этнограф и историк, обратил внимание на то, что в системе индийского фольклора «Панчатантре», достаточно стройной, выпало двадцать сказок. Есть ссылки на сказки, но нет самих сказок. Если эти сказки не сберегла сама страна сказок — Индия, где отыскать их? Ну не искать же эти сказки на монгольских просторах, у народов, гонимых набегами злых завоевателей? И казалось, безнадежно найти эти сказки у потомков ойратов, которых недобрая воли китайских императоров бросила от монгольских равнин в закаспийские степи. Тут и беды, павшие на голову народа, были нестерпимыми, и кочевье свирепым. К тому же где Индия и где горемычная Калмыкия? Этакое расстояние саженью не изморить — этакое время, казалось, и календарю по подвластно, — где тот далекий год, когда испарились в небытие эти сказки? Но вот что схоже с дивом, и это свидетельствует своим авторитетом ученый: сказки отыскались в Калмыкии. Нет, не в ветхих папирусах или на пыльном камне, а в памяти народной. Вот это и есть Калмыкия. Впрочем, чтобы понять этот факт, уместно обратиться к мысли, которую высказал писатель Петр Павленко: «Только смерть всего народа является гибелью песни. Но если жив хоть один человек, он спрячет песню, как свой наказ потомкам, в самый глухой уголок памяти и сохранит для сына и внука, и она выдержит все невзгоды».
Мы ехали с Кугультиновым декабрьской Москвой с большого писательского форума, на котором с речами-исповедями выступили и наши поэты. Форум только начался, но гора речей успела вознестись на высоту значительную, Казбек речей.
— Да можно ли согласиться с этим? — Кугультинов назвал имена поэтов, которые, ратуя за гражданственность поэзии, вдруг ополчились на пейзажную лирику. — Без любви к степному цветку и травушке-муравушке нет любви к родной степи, а следовательно — к родине... Кстати, отцы наши это хорошо понимали, отцы... — Этот степной цветок, возникший в темпераментной реплике поэта посреди зимней Москвы, был очень хорош, он не утратил красок своих, наоборот, на снегу он казался даже ярче. — Я сказал «отцы». Вот послушайте... — Он наклонился, вглядываясь в смотровое стекло, мутное, тронутое наледью. — Маршал Буденный пригласил нас в свой загородный дом, ну, здесь, за Кунцевом... «Ребята, да надо ли нам тут оставаться? Вон какая духота! — взмолился маршал. — Айда на сеновал!..» И, ведомые старым воякой, мы двинулись на сеновал, и точно рукой сняло усталость. Да что усталость! Настроение стало иным. Никогда не забыть, как восторжествовал Буденный. «Вы только вдохните этот запах, ребята: дождем пахнет, степным дождем...»
Но торжествовал сейчас и Кугультинов:
— Вы обратили внимание, как он хорошо сказал: «Дождем пахнет...» Поэт!
У Кугультинова есть цикл стихов, посвященный апрельскому пробуждению:
Трепеща, купаясь в тепле.
Сыплет жаворонок свои трели
Для кого, дружок, на земле
Ты поешь в этот день в апреле?
От дыхания ветерка
Шелестят еле слышно травы...
Для кого, наклонясь слегка.
Травы, шепчетесь вы лукаво?
Понимаю сердцем своим,
Что им нужно — траве и птице.
Видно, радость не в радость нм,
Если не с кем ею делиться.
Мое ясна их добрая цель.
Ведь не знают эти созданья,
Что меня одарял апрель
Древней силон всепониманья.
Это именно цикл — шестнадцать стихотворений. С завидной увлеченностью поэт рисует картину степной весны. Наверно, древняя сила всепониманья, о которой говорит поэт, для всех много значит, но сердцу степняка она говорит чуть-чуть больше, чем всем остальным. Не щедра на краски степь — и летом, когда зной точно выпалывает траву, и осенью, когда сушь гасит все живое, и в зимнее бесснежье, когда только зоревой изморозью расцвечивает курганы и балки. Зато необыкновенно богата степь в своем апрельском цветенье — как же не радоваться степняку приходу благодатного апреля!.. Нет, это не просто смена времен года, это приход заповедной поры, означающей обновление жизни, неколебимость ее начал, ее, в конце концов, вечность. Да и для поэта все это нечто большее, чем традиционный мотив весны: вопреки всем ненастьям, которые пали на него, восторжествовал апрель!..