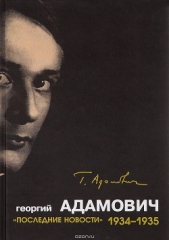Литературные заметки. Книга 2 ("Последние новости": 1932-1933)

Литературные заметки. Книга 2 ("Последние новости": 1932-1933) читать книгу онлайн
В издании впервые собраны под одной обложкой основные довоенные работы поэта, эссеиста и критика Георгия Викторовича Адамовича, публиковавшиеся в самой известной газете русского зарубежья - парижских "Последних новостях" - с 1928 по 1940 год.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Есть разница между сладостью и приторностью. Катаева, очевидно, мутит от того, что К. Леонтьев называл «гипертрофией художественности», рассчитанной на детей или на дикарей. Ему хочется прозы поскромнее, побледнее, построже, ему хочется искусства, которое уходило бы «концами в воду», а не кокетничало бы своей принаряженностью. В России у него, вероятно, найдутся единомышленники и с каждым годом их будет все больше.
Дос-Пассос. Для большинства зарубежных читателей это имя пустой звук. Если они и слышали о нем, то смутно… Люди, считающие своей обязанностью быть в «курсе» культурной жизни мира, знают, что это молодой американский романист. Обыватель не знает даже и этого.
В России Дос-Пассос сейчас один из двух-трех популярнейших писателей. Пожалуй, даже самый популярный. Успех его огромен, особенно в литературной среде. Недавно в Москве состоялась даже «дискуссия о Дос-Пассосе», длившаяся два дня и прошедшая более оживленно, чем другие литературные собрания и споры. Дос-Пассос, так сказать, на повестке дня. Им увлекаются и у него учатся.
Эти «массовые» увлечения — явление для России привычное. Было время, когда там зачитывались Барбюсом. Потом Барбюс показался плоскими в моду неожиданно вошел Стефан Цвейг, писатель столь же одаренный, сколько и склонный к «халтуре». (Вышедшая в этом году в русском издании цвейговская «Мария Антуанетта» — отличный образец соединения таланта и халтуры.) Нынче советские литераторы клянутся только Дос-Пассосом.
Надо сознаться, выбор неплох. Достаточно прочесть одну главу из любого романа Дос-Пассоса, чтобы увлечение это понять и даже, может быть, разделить. Талант «прет» из всего, что пишет Дос-Пассос, и, конечно, другому советскому любимцу из американцев, маститому Драйзеру никогда и не снилась такая неподдельная живость такая удачливая смелость письма, такой блеск. Нелегко дать в нескольких словах характеристику писателя настолько выдающегося. Скажу все-таки, что Дос-Пассос иногда напоминает Селина, автора «Путешествия в глубь ночи», и родственен ему ненасытно-жадным вниманием к внешнему миру, острым социальным беспокойством и постоянным сплетением юмора и грусти. Только Селин, конечно, сложнее — и в сравнении с ним Дос-Пассос производит все-таки впечатление дубоватого американского парня, который не прочь порезонерствовать, но с еще большей охотой сыграет тут же в футбол.
Советских читателей прельщает в Дос-Пассосе его антипсихологизм или, точнее, то, что для него не существует человека в одиночестве. Книги Дос-Пассоса (как, в сущности, и книга Селина) рассказывают о человеке, пытающемся наладить свою связь с миром, а не уходящем в себя и эту связь умышленно обрывающем. Затем прельщает революционность. Если не ошибаюсь, Дос-Пассос недавно побывал в России и на любезности не скупился. Не раз подписывал он и всякие воззвания, протесты и декларации коммунистического толка. Но одно дело — заявления, другое — творчество. «Ломать я буду с вами, строить нет», — вспоминается давний брюсовский стих. Дос-Пассос мог бы, кажется, его повторить. Несомненно, он ненавидит капиталистическое общество, но от его нервной, судорожной, чисто эмоциональной критики капитализма довольно далеко до симпатий к «строительству», хотя бы и социалистическому… По природе Дос-Пассос анархист.
Такова же и его манера писать — со смещением всех планов и скачками от одной фабульной нити к другой. В России особенно любят «42 параллель» и «1919 год». Это — части большой эпопеи, охватывающей второе десятилетие нашего века, с войной в Центре его. Войну Дос-Пассос показывает издали — из глубины лицемерного, растерянного, испуганно-веселящегося тела. Картина блистательная и едкая, со смутным привкусом каких-то будущих неотвратимых ужасов. Но личная энергия автора так неистощима и радостна, что у него даже ужасы не очень страшны.
В летнее время тянет не только читать, но и перечитывать.
Случилось мне в последний месяц перечесть Федора Сологуба. Позволю себе в двух словах «поделиться впечатлениями», притом — как оговариваются порой советские журналисты — в дискуссионном порядке.
У Сологуба никогда не было ни широкого признания, ни широкого влияния. Но наша «элита» чтила его необычайно высоко. Принято было даже в хорошем обществе предпочитать его Блоку: это давало диплом на изысканный вкус. Блок будто бы был для толпы, Сологуб для посвященных.
«Элита» нередко бывает в своих пристрастиях права: много есть примеров тому, как ей удавалось за одно-два поколения привить свой вкус толпе. Но иногда она и ошибается. (Нельзя забыть, например, что в свое время она у нас полностью «отрицала» великого Некрасова и противопоставляла ему Фета.)
Не ошиблась ли она в оценке Сологуба? Бесспорно, большое мастерство. Бесспорно, своеобразие. Но дальше, но глубже? Не подозрителен ли холодок, веющий от каждой сологубовской строчки, и нет ли за холодком пустоты? Современников легко обмануть. Сологуб играл на «струне странности» и их обворожил. Но с годами обольщения рассеиваются и единственное, что продолжает жить — это огонь, порыв, самозабвение. Блок весь жертвенен и время как бы только раздувает его сияющий костер. Сологуб — «себе на уме», весь в расчетах и осторожности. Когда перестает нравится принятая им поза, не остается ничего.
Правда, в поздних стихах есть просветление. Но силы поэта уже иссякли. Он как будто понял, что прогадал, но понял это слишком поздно – и старческим умилением, слегка напоминающим Жуковского, не мог уже искупить отсутствие духовного подъема в былых своих искусных и недолговечных созданиях.
СОВЕТСКИЙ РЕМАРК
Несколько небольших отрывков их этого романа промелькнуло в журнале «Звезда» за прошлый год. Имя автора было новое, неизвестное. Но вещь сразу, с первых страниц, останавливала внимание, – и я тогда же, раза два о ней писал. Не знаю, помнят ли об этом читатели. Роман называется «Тяжелый дивизион», принадлежит он А. Лебеденко [3].
Недавно «Тяжелый дивизион» вышел отдельной книгой.
Впечатление, произведенное разрозненными главами, подтверждается, даже усиливается. Приятно убедиться, что обещания не обманули и надежды оправдались… Это — замечательная книга, которая выделилась бы везде, при любых условиях. В советской же литературе ее появление вдвойне удивительно. Для военных повествований там существует шаблон, уклоняться от которого не полагается: если дело происходит до революции, то рисуется «империалистическая бойня», с извергами-офицерами и угнетенными, но пробуждающимися солдатами; если после — изверги окончательно теряют человеческий образ, а восставшие солдатской массы проявляют неслыханный классовый энтузиазм и политическое чутье. У Лебеденко от шаблона не осталось почти ничего. Кое-где только, как, например, в сценах с участием священника или в заключительных главах с их никчемной «идеологической концовкой», заметна уступка посторонним влияниям и указаниям. Без этого книга, вероятно, не могла бы выйти в свет: советский писатель должен так или иначе сделать реверанс власти, если не хочет обречь себя на молчание… Это печально, но неизбежно, и возвышенная декламация на тему о независимости творческого духа была бы с нашей стороны по этому поводу неуместна и лицемерна. Осуждать и поучать здесь легко; жить, мыслить и писать там — много труднее, и иначе как «с поправкой на условия» оценивать нынешнюю русскую литературу нельзя. Объективность, беспристрастие, бесстрашие и прочие судебные добродетели прибережем для другого случая; тут нужно только понимание. По существу, книга Лебеденко свободна и правдива.
Она смутно напоминает Ремарка, автора в России мало популярного и коммунистической критикой осмеянного. Конечно, не о лирическом ремарковском «пацифизме» речь: дай советский писатель волю таким своим настроениям, его сразу бы затравили, как «лакея», «прихвостня», «агента» буржуазии, и песенка его быстро была бы спета. Лебеденко осторожен, хотя к мечтательному миролюбию его явно клонит. Однако роднит его с Ремарком больше всего какая-то надломленность, чувствующаяся в тоне романа и в обрисовке действующих лиц, точнее: растерянность личности перед историей… Эта растерянность выражена и отражена во многих книгах о войне. Но Ремарк в ряду военных авторов такого склада – первый (на мой взгляд, по праву, а вовсе не по случайной прихоти судьбы, как теперь принято утверждать). Оттого именно к нему Лебеденко и хочется приравнять.