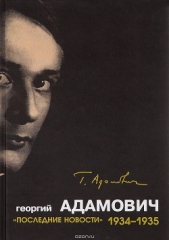Литературные заметки. Книга 2 ("Последние новости": 1932-1933)

Литературные заметки. Книга 2 ("Последние новости": 1932-1933) читать книгу онлайн
В издании впервые собраны под одной обложкой основные довоенные работы поэта, эссеиста и критика Георгия Викторовича Адамовича, публиковавшиеся в самой известной газете русского зарубежья - парижских "Последних новостях" - с 1928 по 1940 год.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Сборник открывается рассказом, который всем известен: «Король». Дальше идут — «Отец», «Любка-казак», «История моей голубятни», «Карл-Янкель» и другие небольшие вещи, порой всего в две– три странички… Я согласен, что некоторые упреки, делаемые Бабелю, основательны. Цветисто, порой чуть-чуть вычурно, слишком причудливо и анекдотично для того, чтобы иметь общее значение, — да, пожалуй, это верно. Но какое мастерство и, за мастерством, — какое чутье, какой «нюх» к жизни! В советской литературе у Бабеля, по сжатой силе и умению найти окончательное, незаменимое выражение, есть один только соперник — Юрий Олеша. Но Олеша слабее, — хотя у него, особенно в коротких его рассказах, есть элемент «прелести», у Бабеля отсутствующий. Олеша больше поэт, больше лирик, но зато они «декадент» (как совершенно правильно охарактеризовал его недавно Катаев в любопытнейшей беседе с сотрудником «Литературной газеты»). Поддержки жизни за ним нет, он выдумщик, фокусник, он «литератор», и потому, когда он срывается (напомню пьесу «Список благодеяний»), то срывается ужасно, — в пустоту и ничтожество. Бабель так сорваться не может, он всегда, даже в самом торопливом и неудачном своем рассказе, сохранит частицу чего-то подлинного, не сочиненного, а найденного. Поэтому его и читаешь без опасений за ход повествования: вздора он, во всяком случае, не расскажет никогда.
Фабула у Бабеля отчетлива и большей частью забавна. Но было бы ошибкой признать, что искусство его только к тому и сводится, чтобы с предельной яркостью рассказать какую-либо незамысловатую бытовую историю. Это не так. За талантливый анекдот можно принять каждый рассказ в отдельности, но в целом над книгой, смутно обрисовываясь, вырастает тема, или, иначе говоря, видно содержание… Автор не вмешивается в диалоги или столкновения своих героев, но он чувствуется за книгой: каждое слово оживлено его дыханием. Не знаю, есть ли в России сейчас писатель, более горестно и безнадежно настроенный: там сейчас оптимизм в моде, да и если бы это и не было так, Бабель все равно выделился бы… Впрочем, его печаль не революцией вызвана и не к советским порядкам обращена. Она гораздо шире, она «вечнее» по природе своей. «Суета сует и всяческая суета». Иногда при чтении мелко-нелепых, «местечковых» рассказов Бабеля вспоминается Библия. Путаются в жалком, противоречивом существовании люди и людишки, мечтают о несбыточном счастье, плачут, смеются, любят, скучают, тоскуют, — и всех одинаково гонит к смерти и ее «всепоглощающей и миротворной бездне» судьба. К ней, к судьбе, книга Бабеля и взывает из глубины отчаяния — как пророки взывали к Богу
Еще одно воспоминание, ближе и мельче — Мопассан. Бабель называет его своим учителем. Это тема для особой статьи: влечение к Мопассану в России… Во Франции его, как известно, ценят довольно невысоко. У нас же он давно стал классиком, — и преклонение Бабеля перед ним лишь новое тому подтверждение. Разгадка этого расхождения оценок, мне кажется, в том, что французская критика и вообще французы никогда не придавали большого значения дару «жизненности», которым с такой несравненной силой владел Мопассан (значительно превосходя в этом отношении Флобера или Стендаля). Для России же это было решающим достоинством. Бабель полюбил у Мопассана то, что есть в нем самом.
ПОСЛАНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ
Прежде всего, отмечу странное явление: они приходят неравномерно, а, так сказать, «полосами»… Бывают месяцы, когда не получается ни одного письма. Потом – сразу три, на следующий день – еще одно, через неделю – еще несколько, и так до нового перерыва. Никаких объяснений этому не найти, но самый факт повторяется постоянно, приблизительно с такой же точностью, как смена времен года.
Обыкновенно к письму приложено несколько отдельных листков. На листках – стихи… Можно держаться какого угодно мнения насчет развития русской поэзии, можно утверждать, что уровень ее падает и влияние идет на убыль, но одно несомненно: количество стихотворцев не уменьшается, а скорее растет. Пишут стихи в Париже и на каких-нибудь фермах, заброшенных в глухой провинции, пишут их в Иностранном легионе и в Шанхае, «под знойным солнцем Аргентины» и в дождливом Пинске. Человек, который с некоторым постоянством занимается литературной критикой, может легко составить себе коллекцию почтовых марок всех стран света. Везде рассеяны русские эмигранты. Везде среди них находятся поэты.
Большею частью авторы просят указаний. Иногда выражают желание, чтобы произведения их были помещены в печати, и сообщают адрес, по которому надлежит перевести гонорар. В обоих случаях испытываешь некоторое смущение: не знаешь, что ответить. За такими письмами нередко чувствуется подлинная взволнованность, нетерпеливое ожидание. «Отписаться», ответить ничего не значащим казенным комплиментом или пустым, расплывчатым советом «работать» – невозможно. О помещении присланных стихов в печати в большинстве случаев не может быть и речи. Приходится искать выражений не слишком обидных, но и не дающих ложной надежды.
Указания… Если бы даже обладать достаточной самонадеянностью и считать себя вправе эти указания направо и налево раздавать, при первой же попытке выйти за пределы первоначальной литературной грамотности возникли бы затруднения. Когда человек строит дом или решает алгебраическую задачу, указания ему дать легко: существуют в этих областях общие незыблемые правила, — правила, не находящиеся ни в какой зависимости от личных особенностей каждого, кто их применяет. Дом должен быть построен так-то, задача должна быть так-то решена, именно так, а не иначе. Известно, для чего они строятся или решаются, следовательно, известно и то, какие принципы должны быть соблюдены. Но насчет искусства не известно с достоверностью ничего: ни – что? ни — для чего? ни — зачем? ни — почему? ни — для кого? Все остается в области предположений и догадок. В школах, правда, излагаются правила стихосложения и даются общие стилистические советы, но первый же творческий опыт их опрокидывает и уничтожает: творчество начинается с победы над общим, а не с подчинения ему… Иначе: в творчестве все определяется личностью творящего. Может быть, в далекие, счастливые времена это было не совсем так. Личность с добровольным и естественным смирением растворялась в общем, безымянном замысле или по крайней мере, сознавала свою неразрывную связь с ним. Тогда, пожалуй, можно было давать «общие указания». Но теперь положение изменилось, и как бы мы об этом ни сожалели, умышленной «юлиановской» слепотой делу не поможешь. Нельзя по собственной своей прихоти восстанавливать золотой век, нельзя и механически навязывать эпохе то, что она потеряла. Сейчас в искусстве и литературе, при сколько-нибудь развитом художественном сознании, каждый отвечает сам за себя, каждый говорит о себе. Только в советской России сделана попытка вернуться к «коллективному вдохновению», в соответствии с общим строем и складом тамошней жизни… Но попытка превратилась в административную меру. С внешней стороны она как будто бы и удалась: единство достигнуто. Однако если вглядеться сколько-нибудь внимательно, ясно, что получилась только коллективная фальшь, коллективное малодушие, страх и раболепие. Все живое в советской литературе этой общей обязательной «перестройке» сопротивляется или, по крайней мере, пробует ее осмыслить.
Авторы просят указаний… Если в стихотворении срифмованы, например, «луна» и «зима», то можно, разумеется, ответить, что обычно луна рифмуется с весной или волной, т. е. со словами, имеющими одинаковую опорную согласную. Если в пятистопной строфе попадается шестистопная строчка, можно обратить внимание и на такой промах. Но ведь это — азы, прописи, приготовительный класс. Уже в «первом классе» поэт имеет право – и порой имеет основание – срифмовать луну с барабаном и вообще с чем угодно, а размеры смешать и сломать с еще большей причудливостью. Честный и взыскательный мастер это делает очень редко, ибо он не кокетничает показным своеобразием, а избегает его, — он не притворяется свободолюбивым безумцем, не ощущая внутренней потребности к тому. Мастер стремится к наружной скромности, к сдержанности и экономии в средствах. Но он твердо знает, что непреложных законов над ним нет, и если, например, ямбическая строфа ему мешает сказать то, что сказать надо, он без малейшего колебания скрутит ее в веревку, — не подчиняясь оболочке, а подчиняя ее себе.