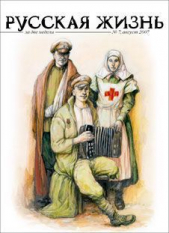Русская жизнь. Вторая мировая (июнь 2007)

Русская жизнь. Вторая мировая (июнь 2007) читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Тема голода вообще была очень важна в советской мифологии. Но при чем тут водка?
А вот при чем. Водяра, помимо всего прочего, отбивает чувство вкуса: бьет, как молотком, по языку, отшибая вкусовые сосочки, - и одновременно разжигает чувство голода, воздействуя на соответствующий нервный центр в мозгу. Под водочку можно впихать в себя дрянь, и она даже кажется желанной: блеклый пельмень, начиненный жильно-хрящевой массой, подтухшее яйцо «под майонезом», рыбконсервы низшего разряда - все кажется съедобным.
В каком- то смысле водка убивает еду. Убитая еда называется закуской. Это труп пищи. Его не едят, им «зажевывают». Но если еда такая, что ее можно только убить, водка уместна.
Кроме того, водка калорийна - то есть является едой, причем легкоусвояемой. Так что глагол «жрать» по отношению к «беленькой» абсолютно уместен. Ее именно что кушают, к тому же она является универсальной подливой, приправой и стимулятором аппетита. Так организм привыкает к водке еще и как к еде. С чем сталкиваются люди, по тем или иным причинам завязавшие? Через какое-то время они начинают рыпаться в поисках углеводородов -скажем, лопать в больших количествах какое-нибудь мороженое.
Опять же заметим: в максимальной степени такое действие оказывает именно «чистенькая». Другие крепкие напитки, содержащие в себе что-то кроме спирта с водой, - хотя бы те же настойки и наливки, не говоря о бренди и коньяке- работают уже не столь грубо и однозначно. Стимулируя аппетит, они не отбивают вкус, а как бы направляют его. Так или иначе, только водка в точности соответствовала советской еде. И сама она была советской едой.
Рассказы о пьянках («Мы тогда с Валерой взяли две на троих, залакировали пивасиком, потом Валера зеркало разбил, а Санек всю кухню уделал, а Толян ваще охренел…») стали неотъемлемой частью позднесоветской культуры - может быть, даже более важной, чем сами возлияния. Интересно, что тема «алкогольных воспоминаний» (рассказов и быличек) считалась и до сих пор считается светской - то есть об этом можно было говорить публично, несмотря на возможные неаппетитные подробности. Более того, это популярнейшая застольная тема; рассказы про выпивку хорошо идут под выпивку: о чем говорим, то и творим.
Откуда это и почему? Да потому, что пьянка была и остается, пожалуй, наиболее интересным занятием из всех доступных «нашему простому человеку».
Нет, не буду говорить про унылую и беспросветную жизнь, озаряемую только болотными сполохами пьяного веселья. Тут другая, более существенная причина. А именно - некая особенность национальной культуры, которая и порождает культ алкогольного времяпрепровождения.
Мы, жители одной седьмой части суши, склонны предъявлять высокие требования друг к другу. Каждое неправильное действие другого человека, каждый косой взгляд откладываются в памяти надолго, если не навсегда. При этом у нас нет сколько-нибудь нормального механизма «выяснения отношений» и снятия напряженности. Взаимные обиды именно что копятся. Поэтому мы постоянно «за себя отвечаем». А ведь людям иногда хочется сбросить с себя груз постоянного самоконтроля, попасть в ситуацию, когда действия и слова не идут в счет. Идеальная для этого ситуация - пьянка. «С пьяного нет спроса» - это зашито в нас очень глубоко. «Ну прости, нажрался, ничего не помню». Пьянка способствует сбросу накопившегося груза обид. Например, можно пойти «выяснить отношения» - иной раз и с мордобоем, - но если драка заканчивается совместным распитием пузыря, то все претензии аннулируются.
Но это все в сторону, так как к водке отношение имеет не прямое. Нажраться можно много чем. Причем я думаю, что водочная пьянка - далеко не самый удачный вариант.
Позволю себе обратиться к самому тонкому моменту - а именно к смыслу водки. К тому, зачем она «в идее своей».
Каждый напиток имеет, как бы это сказать, свое применение. Шампанское, например, хорошо пить в честь победы или удачки - вроде выигрыша на скачках, женитьбы на королевне, выхода первой книги или получения диплома. А вот, скажем, коньяк уместен после дорогого клубного или ресторанного обеда, под сигару и желательно в обществе солидных людей, обсуждающих сделки, ставки, интриги. Сухой херес - идеальный напиток интеллектуала, его хорошо потягивать, читая умную книгу, а еще лучше во время писания таковой.
Так вот, и для водки - именно для «чистенькой», «беленькой» - существует ситуация, когда она абсолютно уместна, и уместна только она одна. Только «беленькая» - и ничего кроме.
Мой дед Иван Михайлович Кондратьев умер зимой, в декабре. За месяц до смерти он звонил домой из больницы и просил похоронить его в деревне. Бабушка врала в трубку «поправляйся», но обещание дала. Пришлось выполнять.
Деревня была за сто километров с гаком. На дворе стояла темная глухая стужа. Никто ни за какие шиши не поехал бы в эту темноту, но помог мой тесть, крепкий мужик и хороший человек: достал машину и сел за руль. Гроб привязали к крыше кузова. Мы накрепко завязали все веревками, но он все-таки слегка дергался, чуть кренясь туда-сюда. Я сидел в кузове, в темноте, и слушал, как воет мотор и дерево скребет по жести: шштрх, шштрх.
Мама выехала в Тарутино еще утром. Надо было сделать множество дел: встретиться с председателем, выяснить ситуацию с кладбищем, договориться с местными хануриками насчет ямы в земле (долбить мерзлую землю - «это же стоит чего-то», а денег тогда было в обрез). Ну и, конечно, протопить дом и напечь блинов. Другого отношения не поняли бы местные: что-что, а провожать покойного надо было по-людски.
Похороны были быстрыми и невзрачными - «зарыть». Высокий снег забивался в сапоги, тихо матерился тесть, занося угол гроба. Когда стали опускать, бабушка, худенькая, в драном пальто, кинулась было к яме с причитаниями: «Ванечка, Ванечка… холодно же, холодно ему там, холодно», - да завязла в снегу, а потом мама ее обняла и они немножко поплакали, мы тем временем засыпали яму, растрепанный нетрезвый мужик с другого конца села (не помню, как звать) объяснял мне, что весной земля провалится, так что надо будет «обиходить могилку-то», и не дам ли я ему на сей счет бутылку прямо сейчас. Я, естественно, буркнул что-то вроде «там посмотрим», а мама напомнила, что на предмет выпить мы сейчас того-сего соорудим, давайте к нам, пожалуйста, как же это не выпить: покойник.
В доме было сыро. Окна запотели, оставленное тряпье намокло, в воздухе роились комочки водяного пара, задевали лицо, липли к рукам. Кое-как прогретый за три часа дом надо было бы, по-хорошему, сперва проветрить, а потом прогреть заново, да времени уже не было ни на что. Лампочка болталась на шнуре, с нее свисал жухлый тусклый свет.
На кухонном пятачке воняло керосином. Над керосинкой стояла мама и допекала последние блины. Рядом по-рыбьи блестела бокастая трехлитровка с мутным рассолом, в котором плавали склизкие соленые огурцы. Их вылавливала и накладывала в миску какая-то неизвестная баба, с хлюпом пришептывающая что-то вроде: «Ой, чего… и вроде крепкий был… в баню ходил с мужиками-то… небось дома довели…» Доходя до «дома довели», баба хитренько поглядывала на маму, не отреагирует ли та как-нибудь по-городскому, то есть глупо. Мама наградила ее соответствующим взглядом и посоветовала прикрутить фитилек.
Перешли к делу. Мама опрокинула стопарь, почти не поморщившись. Быстро заела блином. Все та же баба заботливо подвинула бабушке: «Степановна, давай, Ванечка-то, Ванечка». Бабушка посмотрела на бабу и тихо сказала: «Мне нельзя, вы же знаете». Взгляды присутствующих переместились на меня. Передо мной стоял такой же стопарь, налитый опять же не вполсуха, а как положено.
Я с отвращением поднял емкость, в несколько давящихся глотков освоил ее, закушав огурцом.
Второй стопарь пошел не то чтобы лучше, но как бы проще: вкус был такой же омерзительный, но быстрее зажевался. Деревенский народ бухал сосредоточенно, вдумчиво, не позволяя отвлекаться на «глупостя». Мужики хряпали родимую стакашечками, серьезными такими семнадцатигранными, бабоньки позволяли себе разнобой, но тоже наливались быстро, споро, с явным намерением уделаться в сопли, благо такой повод, «Ванечка-то, Ванечка». Хмуро сидел с остывающим блином на тарелке тесть: ему предстояло вести машину.