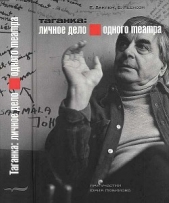Журнал Наш Современник №2 (2003)

Журнал Наш Современник №2 (2003) читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Таким образом, историческая дилемма жесткая: либо мы живем частной жизнью, вкушая прелести неангажированного существования, — и тогда коллективные дела и решения за нас вершат другие, вышестоящие инстанции, либо мы никому не передоверяем решения наших общественных дел, но это возможно лишь в том случае, если мы ведем граждански неусыпное, мобилизованное существование. Почему погиб полис — этот настоящий образец гражданского общества, на место которого встала “одинокая толпа”, или общества “изолированных атомов”, беззащитных как перед узурпациями власти, так и перед манипуляциями заказанных ею кукловодов-“пиарщиков”? Привычный ответ “социальных реалистов” состоит в том, что классический полис — это малое общество, для которого оказывались реализуемыми практики прямой “демократии участия”. Современное большое общество, членов которого невозможно собрать вместе на одной площади, обречено быть обществом делегируемой, или представительной, демократии, поделенной на активное меньшинство политических профессионалов и пассивное большинство, привлекаемое к политическим решениям лишь в период выборов. На самом деле тайна перехода от гражданской “демократии участия” к пассивной представительной демократии коренится вовсе не в фатальности различия между малыми обществами-коммунами и современными “снизу не обозримыми” обществами. Любое большое общество можно было бы разделить на федерацию множества коммун, управляемых на основе гражданской самодеятельности. Но это упирается в отсутствие необходимого для самодеятельной демократии социального времени . Граждане античного полиса были “свободнорожденными”, не занятыми в материальном производстве, где были задействованы рабы. Время их гражданской занятости было именно не экономическим, а социальным — временем производства внерыночных, внеэкономических социальных благ. Таким же временем обладали представители “третьего сословия” — бюргеры, или буржуа свободных городских коммун, предшествовавших эпохе абсолютизма. Здесь, собственно, коренятся истоки семантического недоразумения, повлиявшего на идеологические презумпции современного либерализма. Либеральная идеология внушает нам, что демократия неотделима от частной собственности, а главным носителем ее является буржуа-собственник. На самом деле французское слово bourgois , как и немецкое buerger , означает не собственника, а горожанина — члена самоуправляемой коммуны. Парадокс состоит как раз в том, что чем в большей степени горожане — представители “третьего сословия” погружались в дела собственности, в производство экономической прибыли, тем в меньшей степени они выступали как активисты самодеятельного гражданского общества — представители “площади” (агоры). Зарождение нового времени ознаменовалось острейшим конфликтом между экономическим временем собственника и социальным временем представителя самодеятельной городской коммуны . Дело, разумеется, не только в перераспределении социального и экономического типа времени в пользу последнего. Дело и в сопутствующих этому изменениях в психологии и мотивациях буржуа (бюргера), все более идентифицирующего себя не столько как патриота коммуны, сколько как собственника, сосредоточенного на гешефте. Демократическая гражданская мотивация горожанина слабела, мотивация индивидуалистического стяжателя, заботящегося только о делах своего частного предприятия, усиливалась.
К этому надо добавить и специфический проект собственника, связанный с намеренным разрушением сплоченного и взаимоответственного социума. Как пишет К. Поланьи, организаторам нового предпринимательского (рыночного) строя необходимо было десоциализировать общество — парализовать механизмы взаимной социальной поддержки — для того, чтобы создать безальтернативный рынок труда. Это означает, что, только лишившись всяких надежд на общественную помощь и благотворительность в любой ее форме, вышедшие из общины бедняки согласятся жить по законам рынка — исключительно продажей своей рабочей силы. “... То самое, что белый человек по-прежнему время от времени практикует в далеких краях, то есть безжалостное расщепление социальных структур, чтобы получить в процессе их распада необходимый ему элемент — человеческий труд, в XVIII в. белые люди совершали с аналогичной целью по отношению к себе подобным... Лионские мануфактуристы XVIII в. ратовали за низкую заработную плату главным образом по причинам социального характера. Только изнуренный тяжелым трудом и нравственно сломленный работник, утверждали они, откажется вступить в союз со своими товарищами, чтобы избежать состояния личной зависимости, когда его можно заставить сделать все, что только потребует его хозяин”2.
Это — будто специально про нас. Паралич систем социальной поддержки и страхования сегодня необходим рыночным реформаторам для того, чтобы все факторы производства, в том числе и труд, сделать чисто рыночными — никакой альтернативы найму под давлением голода быть не должно. Голодное, лишенное нормальных цивилизованных стандартов существование масс, как оказывается, необходимо реформаторам и по чисто политической причине — чтобы получить нравственно сломленный социум, неспособный к солидарности и самозащите. Но и в менее экстремальных условиях современного потребительского общества социум распадается уже по другой причине — социальной деградации “законченных индивидуалистов”, жаждущих не столько эмансипации своей личности, сколько раскрепощения своих инстинктов. В настоящее время действует мощный проект, связанный с подменой свободы личности (разума) “свободой инстинкта”. Массированная пропаганда “учителей раскованности”, связанная с культом тела, защитой прав девиантных меньшинств, с легализацией мата, порнографии, наркотиков, не случайно вписана в либеральный “антитоталитарный” проект. Итогом этого проекта должны стать инстинктивные индивиды, более неспособные мыслить собственно социальными категориями. Социальные подходы и критерии подвергаются всяческой дискредитации — в них видят либо рецидивы классового подхода и классовой зависти, либо проявления традиционной авторитарной репрессивности в отношении “новой” личности, не признающей устаревших социальных и моральных резонов. Намеренное сужение социального кругозора людей, нарочитая подмена социальных критериев сексуальными, этническими, расовыми вполне вписывается в новую модель “инстинктивного индивида”, ориентированного на “телесные практики” и оперирующего “телесными” категориями. Кому-то надо лишить людей социальной способности суждения и иметь дело с разрозненными носителями зоологических инстинктов, вместо того чтобы сталкиваться с рационально мыслящим, способным к коллективной самозащите социумом.
Однако вернемся к истории европейского нового времени. Когда граждански активный бюргер стал вырождаться в озабоченного лишь личными интересами индивидуалиста, а время социального производства угрожающе сократилось в пользу производства вещей, объективно наметился переход от социального производства самодеятельного типа — на уровне автономного гражданского общества — к социальному производству, организованному государством. Подобно тому как абсолютистское государство стало держателем системы Просвещения, которую отказался финансировать частно-капиталистический рынок, оно же становится носителем системы социального производства. Чем больше индивиды выходят из полиса и ведут сугубо частную жизнь, тем необходимее становится существование надындивидуальной системы, олицетворяющей их общность. Это только психология либерально-индивидуалистического восприятия связывает с абсолютизмом деспотическую вздорность “тиранов” и ничего больше. На самом деле абсолютизм выражает энергию преодоления и дистанцирования от всего, грозящего узурпацией общего в угоду своекорыстным групповым и местническим интересам. Как писал П. И. Новгородцев, “требования суверенного и единого государства... выражает не что иное, как устранение неравенства и разнообразия прав, существующих в средние века. При раздробленности феодального государства право человека определялось его силой и силой той группы, к которой он принадлежал”3. Последнее весьма напоминает царство естественного отбора с его естественными отношениями силы, но именно альтернативу естественного неравенства и создавал абсолютизм как прообраз единого правового государства. Такое государство выступает как система производства единого политико-правового пространства посредством выравнивания исторически возникших различий под давлением единой государственной нормы. Ясно, что для этого государству требуется политическая сила, и ясно также, что эта сила употребляется им в первую очередь против “сильных”, тяготящихся уравниванием со “слабыми”. В этом — специфический демократизм абсолютизма и его историческое оправдание.