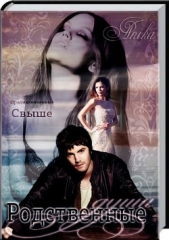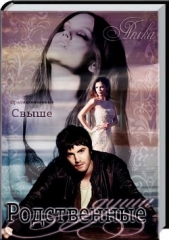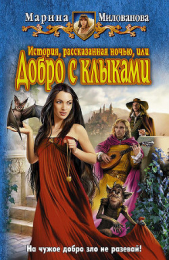«Последние новости». 1934-1935
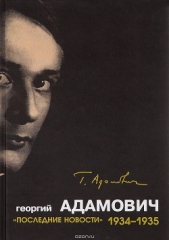
«Последние новости». 1934-1935 читать книгу онлайн
В издании впервые собраны основные довоенные работы поэта, эссеиста и критика Георгия Викторовича Адамовича (1892–1972), публиковавшиеся в самой известной газете русского зарубежья — парижских «Последних новостях» — с 1928 по 1940 год.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Прочел ваше письмо, вы дурак!
Володя «разъярился», но, из предосторожности, дал Беленсону оплеуху только через два года, когда
настала революция. Облик Хлебникова, Чуковский, доклад о футуризме у Кульбина — и многое другое…
* * *
По-своему интересна и статья Л. Кассиля «На капитанском мостике»: рассказ о том, как Маяковский держался на эстраде.
Разделить восхищение Кассиля трудно: он как будто забывает, что речь идет о поэте, а не об актере — импровизаторе, фокуснике, присяжном остряке, любимце публики и вообще каком-то «душке» на новейший лад. Маяковский, действительно, был великим «мастером эстрады», — если выражаться советским стилем: он великолепно читал свои стихи, настолько великолепно, что нередко ему удавалось выдать плохие стихи за хорошие (тут я вполне согласен с Л. Брик: впечатление бывало «потрясающее», но на следующий день, над печатным текстом, не оставалось от былого потрясения почти ничего). Он чрезвычайно находчиво отвечал на замечания с мест или на записки, он с изощреннейшей язвительностью издевался над оппонентами. В качестве митингового оратора, со своей громовержущей глоткой, он был бы, вероятно, незаменим и неподражаем. Но слушать его часто было неловко, даже мучительно.
Не буду объяснять, почему. Приведу только несколько выдержек из записок Кассиля, — надеюсь, все станет ясно.
«Маяковскому жарко. Он снимает пиджак. Он аккуратно складывает его на стол. Он подтягивает брюки.
— Я здесь работаю, мне жарко. Имею право улучшить условия работы. Безусловно.
Молниеносные ответы разят пытающихся зацепить поэта. “Маяковский, — вызывающе кричит молодой человек, — вы что, полагаете, что мы все идиоты?» — «Ну что вы, — кротко удивляется Маяковский, — почему все? Пока я вижу перед собой только одного». Некто в черепаховых очках взбирается на эстраду и принимается утверждать, что Маяковский «уже труп, и ждать от него нечего». — «Вот странно, — задумчиво говорит вдруг Маяковский, — труп я, а смердит он». — «Я должен напомнить товарищу Маяковскому, — горячится толстый человек, — истину, которая была известна еще Наполеону: от великого до смешного один шаг». И в ту же секунду Маяковский, по слоновьи подняв ногу, молча, в один огромный шаг перемахивает через расстояние, отделявшее поэта от растерявшегося говоруна.
— От великого до смешного один шаг, — надрывается от хохота зал. «Маяковский, как ваша настоящая фамилия?» Маяковский с таинственным видом наклоняется к залу. — «Сказать? — Пушкин». — «Стыдно вам, Маяковский, ругать Пушкина, помните, как к нему Николай приставал!» — «Николай приставал не к Пушкину, а к его жене», — невозмутимо басит Маяковский. — «Маяковский, ваши стихи слишком злободневны. Они завтра умрут. Бессмертие не ваш удел». — «А вы зайдите через тысячу лет, там поговорим». — «Ваше последнее стихотворение слишком длинно». — «А вы сократите, на обрезках можете составить себе имя». Маяковский, мы с товарищем читали ваши стихи, ничего не поняли». — «Надо иметь умных товарищей». — «Маяковский, каким местом вы думаете, что вы поэт революции? — “Местом диаметрально противоположным тому, где родился этот вопрос»…
Конечно, все это может нравиться, пленять и очаровывать. Многим и нравится. О вкусах не спорят. Но, в сущности, нельзя назвать всю эту эстрадную и фиглярскую виртуозность иначе, как культивированием того печального человеческого свойства, имя которому дано одним из трех сыновей библейского Ноя.
* * *
Человек же был все-таки необыкновенный. И необыкновенный был поэт, — хотя и того грубого, ораторского, декламационного склада, с которым примиряешься лишь на высших ступенях его развития. Я не чувствую никакого желания щеголять парадоксами, но сказал бы все-таки, что в идеале и завершении своем Маяковский восходит к Виктору Гюго, — конечно, не по идейному содержанию своей поэзии, а по жанру и духу ее. Есть люди, боготворящие Гюго, и есть другие, засыпающие над ним. То и другое возможно — и даже естественно, — и по отношению к Маяковскому.
Асеев в своей статье служит Маяковскому дурную службу, отрицая у него всякую духовность и даже душевность, пытаясь превратить его в рядового рифмача-истукана. Он отказывается полемизировать на эту тему с «врагами». Не будем и мы полемизировать с ним.
Два слова только о тенденциозном подборе цитат, которым «враги», будто бы, искажают «радостнобольшевистский» образ Маяковского и преувеличивают значение его самоубийства. Совершенно верно: цитаты можно чуть ли не у всякого поэта подобрать какие угодно. Но есть ритм, который нельзя подделать, есть «музыка» стиха, которая красноречивее самих слов… Не случайно же все-таки голос Маяковского становится по-настоящему убедителен лишь в таких, например, прекрасных и трагических строках:
(как почти всегда в наших здешних эмигрантских условиях, цитировать приходится по памяти; не бежать же в библиотеку за справкой, — а книг под рукой нет. Боюсь, что ошибся в именах, кроме Оли, которая необходима для рифмы).
Это, право, не то что «кроме как в Моссельпроме», это сказано блудным сыном поэзии, вновь к ней вернувшимся, — и только потому ею и принятым, что он в это мгновение был взволнован и чистосердечен. Пусть даже и «временно», как смущенно должен признать блюститель непреложной коммунистической морали, надсмотрщик, судья, добровольный цензор — Асеев.
1935
ЕГИПЕТСКИЕ НОЧИ
У милосской Венеры, конечно, были руки. Очень возможно, что среди многочисленных проектов ее реставрации есть вариант верный, соответствующий замыслу художника. Но, право, всякая реставрация оказалась бы теперь искажением, как бы удачна она ни была… Даже с чисто эстетической точки зрения, — статуя от нее только проиграла бы. В воображении мы смутно наделяем ее какими-то невозможными, несуществующими в природе, небывалыми руками. Не видя этих рук, мы заранее готовы верить, что с ними прекрасное создание было бы еще неизмеримо прекраснее. Реставрация же как бы захлопывает отдушину: не о чем больше мечтать. Даже если получилось совершенство, то не получилось все-таки чуда. Между тем, все «неоконченные симфонии» — безразлично, действительно ли неоконченные или только до нас дошедшие, в обрывках и обломках, — оттого как-то особенно и дороги людям, что в них финальное, неизбежное творческое поражение художника еще не дано, и возможность верить, что его и не было, остается. Плохо, когда художник сам уклоняется от испытаний, укрываясь в своего рода «искусственные руины»… Но уж если волею судеб вещь осталась незавершенной, или если века не сохранили ее во всей полноте, не надо ее трогать, доканчивать, дополнять… У обломков есть своя жизнь, со своими законами, которые всяким посторонним вторжением неизбежно нарушаются. Я назвал сейчас луврскую Венеру — пример самый популярный. Еще охотнее я вспомнил бы — из той же области скульптуры — чудную летящую Самофракийскую Победу: представьте себе, что кто-нибудь, одушевленный лучшими намерениями, надумал бы приделать ей голову! Какое это было бы кощунство!
«Египетские ночи» недописаны Пушкиным. Авторитетнейшие исследователи полагают, что недо-писаны они случайно в силу внешних обстоятельств, и что, проживи поэт еще несколько лет, он повесть свою закончил бы. На эту тему спорить трудно: нет возможности выйти из области догадок, — и формально, пожалуй, правы те, кто указывает, что Пушкин просто-напросто не успел довершить свое создание. Поэтому, при наличии «конгениальности», — и некоторой смелости, — можно взяться и за продолжение повести. Отчего бы, в самом деле, не оказать Пушкину эту услугу? Он не успел, а у нас свободного времени сколько угодно. Возьмем перо, бумагу и, тщательно изучив все тексты, варианты и черновики, потрудимся на пользу русской литературы за погибшего во цвете лет поэта. Но услуга получается «медвежья», а польза более чем сомнительная. Так было, — по общему единодушному, кажется, признанию, — с Брюсовым, дописавшим стихотворную импровизацию итальянца: так случилось в наши дни и с М. Л. Гофманом, приделавшим к трем пушкинским главам четвертую, будто бы пушкинскую (на обложке указано: «с новой, четвертой главой по рукописям Пушкина», а на заглавном листе решительнее: «с новой, четвертой главой Пушкина»), и пятую — плод собственного откровенного творчества. И Брюсов, и Гофман в течение долгих лет изучали Пушкина. Брюсов, помимо того, был подлинным поэтом… Казалось бы, гарантии удачи — налицо. Но попытка была внутренне-порочна, и это гибельно отразилось на результате.