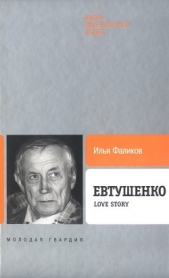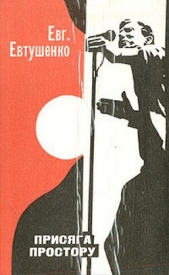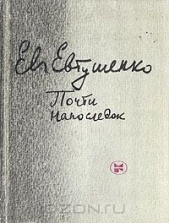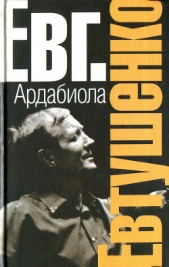Талант есть чудо неслучайное
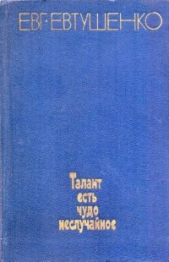
Талант есть чудо неслучайное читать книгу онлайн
Евгений Евтушенко, известный советский поэт, впервые издает сборник своей критической прозы. Последние годы Евг. Евтушенко, сохраняя присущую его таланту поэтическую активность, все чаще выступает в печати и как критик. В критической прозе поэта проявился его общественный темперамент, она порой открыто публицистична и в то же время образна, эмоциональна и поэтична.Евг. Евтушенко прежде всего поэт, поэтому, вполне естественно, большинство его статей посвящено поэзии, но говорит он и о кино, и о прозе, и о музыке (о Шостаковиче, экранизации «Степи» Чехова, актрисе Чуриковой).В книге читатель найдет статьи о поэтах — Пушкине и Некрасове, Маяковском и Неруде, Твардовском и Цветаевой, Антокольском и Смелякове, Кирсанове и Самойлове, С. Чиковани и Винокурове, Вознесенском и Межирове, Геворге Эмине и Кушнере, о прозаиках — Хемингуэе, Маркесе, Распутине, Конецком.Главная мысль, объединяющая эти статьи, — идея долга и ответственности таланта перед своим временем, народом, человечеством.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
глотками огня. И на смену атрибутам фокусника спасительно приходят реалии бытия,
реалии чувств:
Хоть бы эту зиму выжить, пережить хотя бы год, под наркозом, что ли,
выждать
свист и вой непогод...
И в саду, который за год выше вырос опять, у куста, еще без ягод, постоять,
подышать.
А когда замрут навеки оба бьющихся виска, пусть положат мне на веки два
смородинных листка.
126
Стихотворение «Отец» потрясает своей обнаженностью:
Мне снилось,
что я мой отец, что я вошел ко мне
в палату,
принес судок
домашних щец, лимон и плитку шоколаду.
Жалел меня,
н круглый час внушал мне мужество и бодрость, и оказалось, что у нас теперь один
и тот же
возраст.
Он — я
в моих ногах стоял, ворча о методах леченья, хотя уже —
что он, что я, утратило свое значенье.
Самый красивый печатный цветок на фарфоровом блюдце не может так тронуть,
как запыленный репей, С трудом разгибающийся после проехавшего по нему
тележного колеса. Иллюзии могут давать только иллюзорную силу и только реалии —
реальную. И какая реальная сила, помогающая в борьбе с болезнью, со смертью,
звучит в таких стихах Кирсанова:
Из всех известных чувств сегодня,
/ ставши старше,
я главного хочу — полнейшего бесстрашья — перед пустой доской неведомого
завтра, перед слепой тоской внезапного инфаркта, перед тупым судьей, который лжи
поверит, и перед злой статьей разносною,
и перед фонтаном артогня, громилою с кастетом и мчащим на меня грузовиком без
света!
Эти стихи, как и мечтал об этом Кирсанов, воистину спешат скорой помощью к
стольким людям на земле,
69
да и к самому поэту. И разве не победа над смертью, над исчезновением такие
строки:
...Бесстрашие —
живым
бессмертье заменяет.
Люди, слишком верящие в незыблемость литературной лоции, ошиблись.
Неукротимая, звонкая река Кирсанова осталась собой, но русло ее изменилось, стало
шире, долиннее, и долинность берегов сама определила иное поведение реки,
заставила реку замедлить ход, задуматься о самой себе:
Эти летние дожди, эти радуги и тучи — мне от них как будто
лучше, будто что-то впереди. Будто будут острова, необычные поездки, на цветах —
росы подвески, вечно свежая трава. Будто будет жизнь, как та, где давно уже я не был,
на душе, как в синем небе после ливня —
чистота... Но опомнись, — рассуди, как непрочны,
как летучи эти радуги и тучи, эти летние дожди.
И уже не прежний жонгляж факелами, а тихое самосветящееся волшебство слова,
не нуждающееся во вспомогательных трюках:
День еще не самый
длинный, длинный день в году, как кувшин
из белой глины, свет стоит в саду...
А в кувшин
из белой глины вставлена сирень, в лень, еще не самый длинный, длинный
летний
день.
69
Некоторые стихи Кирсанова исчезнут, как летучие радуги и летние дожди над
дорогой русской поэзии, но лучшие его вещи навсегда вошли в ее грунт:
...Никуда не уйдет кто бы ни был — никто.
Путь Кирсанова — это, с одной стороны, антнучебник, ибо он наглядно показывает
невсемогущество даже самого красивого словесного цирка перед беспощадным
зеркалом времени. Но, с другой стороны, путь Кирсанова— это великолепная школа
поэтического мастерства. Многие приемы, разработанные Кирсановым, волей-неволей
применяют поэты, даже кисло к нему относящиеся,— это особенно относится к
области риторики, рифм. Ассонансную рифму, которую почему-то называют
«евтушенковской», впервые так блестяще использовал на основе русского фольклора
именно Кирсанов. Без существования Кирсанова было бы непредставимо
существование многих других поэтов.
Но если бы я не был поэтом, а просто читателем, то был бы благодарен и тогда за
то, что он сделал для нашей литературы. И Кирсанов, и многие другие поэты старшего
поколения с полным правом могут сказать о себе:
Мы не урны,
и мы не плиты, мы страницы страны,
где мы для взволнованных глаз
открыты
за незапертыми
дверьми.
1970
ЗРЕНИЕ СЕРДЦА
Поэт — это выше умения писать в рифму. Поэт — это свойство души, поднимаю -
щее мастера над ремесленником, человека над недочеловеком. Когда-то в детстве я
любил ходить в крохотную подлестничную мастерскую, где работал зиминский
инвалид-сапожник. Материал, который ему доставался от клиентов, был убог:
протершиеся на внутренних складках кирзовые сапоги, матерчатые танкетки на де-
ревянных каблуках, ботики на резине со скошенными подметками. Не был богат и
ремонтный материал: старые автомобильные покрышки, из которых он вырезал
косячки, голенища отдавших богу душу сапог, но все-таки годящиеся для заплаток к
другим, еще полуживым сапогам. И так аккуратно были нарезаны белые спичечные
гвоздики, лежавшие в коробке из-под монпансье, так вкусно и надежно пахло
просмоленной дратвой, так яростно и осторожно колдовало шило в кривых и тяжелых,
но одновременно прекрасных и легких пальцах, что это и было поэтическим свойством
души мастера, побеждавшим обстоятельства — т. е. преображавшим
действительность, представшую перед ним в виде развалившейся обуви. Через много
лет, прочитав в одной из статей Симона Чиковани: «Сфера поэзии — это по-, корение
действительности вдохновением, создание новой поэтической действительности», я
подумал о том, сколь решительно это определение, включающее в сферу поэзии не
только расположение слов столбиками, но и
70
любой труд — даже труд этого сапожника, неизгладимо вбившего себя в мою
память своим веселым, знающим, изобретательным молотком. Добавлю к тому, что
этот сапожник никогда не оскорблял людей, обращавшихся к нему даже с самыми
безнадежными просьбами, а старался спасти то, что было поручено ему, и, если это
удавалось, улыбался той счастливой, гордой улыбкой, С какой, быть может, когда-то
Пушкин говорил себе: «Ли да Пушкин! Ай да молодец!» Симон Чиковани, как
истинный моцартианец по складу характера, понимал поэзию не как надмирное
жреческое помавание воздетыми к небу холеными руками, отчужденными от земли, по
как нечто, что больше литературы, что рассыпано Не по страницам, а по самой земле.
Окажись с ним рядом в духане Самадло или еще где-нибудь какой-нибудь современный
Сальери (а ведь оказывались, напорное, и не раз!), то Симон наверняка бы, полуслушая
высокопарные изречения Сальери о священном смысле искусства, заслушался бы не
этими ядовито-мудрыми словами, а немудрящей песенкой шарманки, как Моцарт
когда-то уличной скрипкой, или молотком грузинского сапожника, родного брата моего
зи-м и некого.
Такие люди, как Симон Чиковани, рождаются поэтами вне зависимости от
профессии. Если бы Симон никогда не писал стихов, а был крестьянином, он понимал
бы язык трав и мычание коров; если бы он был учителем, он знал бы, как без ложной
нравоучительности направить детей, стоящих на зловеще-прекрасном распутье жизни,
в сторону добра и справедливости; если бы он был врачом, он бы старался спасти всех
приходящих к нему с болезнями, так, как будто все они были его самые близкие
родственники; если бы он был священником, он бы складывал свою проповедь из
множества исповедей, услышанных им, а не из религиозных догм, и эта проповедь
звучала бы для слушателей как будто высказываемая ими самими, а не откуда-то из
декорированного религией неба. А если бы так случилось, что жизнь загнала бы его в
подлестничную мастерскую и дала бы ему в руки только сапожное шило и дратву, он и
сапожником был бы прекрасным, ибо и В этом он бы нашел поэзию служения людям.
Но судь
131
дость никогда не переходила в национальную узость. В этом была его высокая