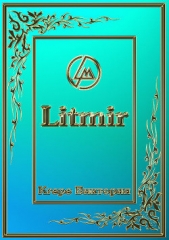Не мир, но меч

Не мир, но меч читать книгу онлайн
В данном издании вниманию читателя предлагаются некоторые из наиболее значительных произведений русского писателя, одного из зачинателей русского декаденства, Д.С.Мережковского (1866–1941). В книгу включены статьи, литературно-критические и религиозно-философские исследования автора.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Так вот каким усилием восхищается царство Божие — усилием не любить. Нелюбовь к людям и есть любовь к Богу; ожесточение сердца к людам и есть христианская святость.
«Когда придет тебе мысль позаботиться о чем-либо под предлогом добродетели и тем возмутить безмолвие, которое у тебя в сердце, тогда скажи этой мысли так: прекрасен путь любви, прекрасно дело милосердия ради Бога; но я ради Бога же не хочу этого» (Ис. Сир., XIV). «Возлюби безмолвие гораздо больше всяких дел» (Ис. Сир., XV). «Бездейственность безмолвия возлюби более, нежели насыщение алчущих в мире и обращение многих народов к поклонению Богу. Лучше тебе самого себя разрешить от уз греха, нежели рабов освобождать от рабства» (Ис. Сир., VI).
Понятно, почему христианство, за все свое существование, пальцем не двинуло для общественного блага людей, для их спасения от рабства и голода. Я был голоден, и вы не накормили Меня. Я был в темнице, и вы не посетили Меня. Голод, рабство, войны, все злодеяния и ужасы мировой истории проходили мимо святых. Погибай мир, только бы святым спастись. Не страшно смотреть на гибель мира, а полежать с отцом или братом на одной рогоже, съесть полтора сухаря вместо одного — страшно.
«Блажен, кто один ест хлеб свой. В которые дни имею беседу с кем-либо, в те дни съедаю по три или по четыре сухаря; и если стану принуждать себя к молитве, то не имею дерзновения к Богу и не могу устремить к Нему мысли. Когда же разлучусь с людьми на безмолвие, то в первый день принуждаю себя съесть полтора сухаря, во второй — один, а как скоро утвердится ум мой в безмолвии, усиливаюсь съесть один цельный сухарь и не могу; и тогда дерзновенно беседую с Богом. Если же, во время безмолвия, случится кому придти и говорить со мною, хотя один час, то невозможно мне тогда не прибавить пищи, не оставить чего из правила, не расслабеть умом к созерцанию Божественного света» (Ис. Сир., VIII). «Как иней сжигает едва выходящую из земли зелень, так свидание с людьми сжигает корень ума, начавший производить злак добродетели» (Ис. Сир., XIX). «На людей мирских вредно смотреть даже издали» (Ис. Сир., XXXVI).
Ежели с любовью к Богу соединима вообще какая-либо любовь к людям, то лишь созерцательная, бездейственная.
«Старец, спрошенный: что такое сердце милующее? — ответил: сердце, горящее о всей твари — о людях, о птицах, о животных, о демонах. При воспоминании о них или при воззрении на них глаза источают слезы. От великой жалости умиляется сердце и не может оно вынести, или слышать, или видеть какого-либо вреда или малой печали, претерпеваемых тварью. А по сему и о врагах истины и о собственных врагах ежечасно со слезами приносить молитву, чтобы сохранились и были помилованы; а также и об естестве пресмыкающихся молиться с великою жалостью, какая безмерно возбуждается в сердце святого до уподобления в сем Богу» (Ис. Сир., XVIII).
Только такая любовь с высоты полета «херувимского» — любовь к людям, которая смешивает их с «естеством пресмыкающихся», не нарушает любви к Богу. При такой любви можно плакать над погибшею букашкою, над сломанным цветком — и пальцем не двинуть для гибнущего брата — человека или даже всего человечества: ведь ежели я двину пальцем, то придется, съев лишний сухарь, лишиться «дерзновенного собеседования с Богом». При такой любви к людям можно исходить слезами в пустыне наедине с Богом; но только что издали увидел лицо, услышал голос человеческий — слезы высохли, сердце ожесточилось и любящий бежит от любимого.
«— Остановись, отец, ради Бога! Спешу за тобой!» — кричал кто-то святому. «И я ради Бога бегу от тебя», — отвечал тот (Ис. Сир., XIV). «Авва Арсений предавался бегству и не останавливался, встречая кого-либо. Авва же Федор, если встречал кого, то встреча его была, как меч» (Ис. Сир., XXIII). «Хочешь ли приобрести любовь к ближнему? Удались от него, и тогда возгорится в тебе пламень любви» (Ис. Сир., XXIII). «Кто омертвел сердцем для своих ближних, для того мертв стал дьявол» (Ис. Сир., XXXIX).
«Однажды некто из отцов пришел видеть авву Арсения (Великого), и старец отворил дверь, думая, что это служитель его; но, когда увидел, кто был пришедший, — пал на лицо свое и, долго умоляемый встать, после уверения пришедшего, что примет благословение и тотчас уйдет, святой отказывался встать, говоря: „Не встану, пока не уйдешь“. И делал это блаженный для того, чтобы, если однажды подаст им руку, снова не возвратились к нему. Когда же авва Макарий укорил авву Арсения, сказав: „Что ты бегаешь от нас?“ — старец представил ему дивное и достойное похвалы оправдание, ответив: „Богу известно, что люблю вас, но не могу быть вместе и с Богом, и с людьми“. И сему чудному ведению научен он не иным кем, но Божиим гласом, ибо сказано было ему: бегай, Арсений, людей и спасешься» (Ис. Сир., XXIII).
На вопрос о том, почему Христос заповедал любовь, соединяющую людей в Боге, а христианство предпочитает любовь уединяющую, святой отвечает: не могу быть вместе и с Богом, и с людьми. Но ведь это значит: не могу любить вместе Бога и человека, не могу любить Богочеловека, не могу любить Христа.
Ежели некий авва Агафон желает взять у прокаженного тело, а ему дать свое, то, после этого обмена телами, их душам все-таки нечего бы делать вместе: обменялись и разошлись, чтобы каждому спасаться в одиночестве.
«Знаем и о другом некоем святом, что брат его сделался болен и заключен был в своей келье. А так как святой во все время болезни брата превозмогал свое милосердие и не приходил повидаться с ним, то больной, приближаясь к исшествию своему из жизни, послал сказать ему: „Если ты не приходил ко мне доныне, то приди теперь, чтобы видеть мне тебя прежде отшествия моего из мира, или приди, хоть ночью, и я поцелую тебя и почию“. Но блаженный даже и в тот час, когда сама природа требует нашего сострадания друг к другу, не согласился и сказал: „Ежели пойду к нему, то не буду чист сердцем моим перед Богом, потому что не радел посещать братии духовных, естество же предпочел Христу“. И брат умер, а он не видал его» (Ис., XXIII).
Хочется кричать от ужаса. Что же это такое? Ангельская любовь к Богу или дьявольская жестокость к человеку? Ведь покинутый брат умер, убитый, может быть, с проклятием святому убийце, который убил его во имя Христа.
И не образ ли всего грешного мира этот брат, покинутый братом? Мир сказал христианству: приди ко мне, хоть ночью, и я поцелую тебя и умру. Но христианство ответило: если приду к тебе, не будет сердце мое чисто перед Богом. И мир погиб, а христианство не пошло к миру.
Теперь понятно, почему отшатнулся он от христианства, как бы говоря: если ты свято, я проклят; если я свят, ты проклято; но нельзя нам быть вместе. И, действительно, миру ничего не оставалось делать, как или не быть, приняв, или быть, отвергнув христианство. Он сделал последнее и хорошо сделал, ибо, если весь Христос — в христианстве и все христианство — во Христе, то мир не мог спастись Христом, а мог только спастись от Христа. Слова эти — кощунство; но не большее ли кощунство утверждать, что нет ничего во Христе, кроме христианства?
Понятно и то, почему христианство вечно строило, но никогда не могло построить церкви. Нельзя строить здания, складывая камни во внешнем порядке и не соединяя их внутреннею скрепою; нельзя создать реального тела, утверждая силу не взаимного притяжения, а взаимного отталкивания, не центростремительность, а центробежность частиц.
«Бегай, Арсений, людей и спасешься», — на этом одиноком, личном спасении нельзя построить спасения церковного, общественного. Один за всех спасается, все за одного погибают.
К тому же церковь строилась не в сияющем средоточии, а на сумеречных окраинах святости. В средоточии — пустыня, уединение; а на окраинах, в «миру» — соединение церковное. Что поплоше, то в церковь, а что получше, то вон. Таким образом, созидалась она не из твердых камней, черных алмазов, а из мягкой трухи, мусора святости. Можно было кое-как слепить из этого мусора пышную римско-византийскую декорацию, но истинную Церковь вселенскую нельзя было создать.