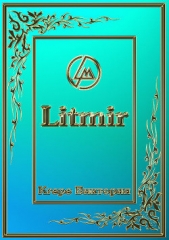Не мир, но меч

Не мир, но меч читать книгу онлайн
В данном издании вниманию читателя предлагаются некоторые из наиболее значительных произведений русского писателя, одного из зачинателей русского декаденства, Д.С.Мережковского (1866–1941). В книгу включены статьи, литературно-критические и религиозно-философские исследования автора.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Кто же эти «кающиеся»? Какие грешники? Не грешники, а святые.
Некий авва Стефан сорок лет прожил в пустыне и достиг такой святости, что леопарда кормил из рук. «За день до кончины пришел он в исступление и с открытыми глазами озирался на обе стороны, как бы истязуемый справа и слева. Поистине, ужасное зрелище было это невидимое и немилостивое истязание. И что всего ужаснее — его обвиняли в том, чего он вовсе не делал. Во время истязания душа его разлучилась с телом, и осталось неизвестным, какое было решение суда».
Если так судят святых, что же будет с нами, грешными?
Покаяние беспредельно; оно не часть, а все, не путь, а цель. «Если бы человек в точности увидел свои грехи, то ни о чем земном не стал бы заботиться, помышляя, что на оплакивание и самого себя не станет ему жизни, хотя бы он и сто лет прожил и хотя бы увидел истекающим из очей своих целый Иордан слез» (Леств.).
Это чувство беспредельной виновности рождает беспредельный ужас перед Богом.
Один святой, помышляя о смерти, приходил от страха в неистовство и, «как пораженный падучею болезнью, относим был братьями, почти бездыханный: подобные ему, — заключает Лествичник, — непрестанно переходят от страха к страху, пока вся сила в костях не истощится».
Таноб, темница, — не искаженный, а точный образ всего христианского мира: весь мир должен превратиться в Таноб, чтобы спастись. Именно оттуда, из этой «блаженной преисподней», из этого святого ада взошло над миром то черное солнце монашеской святости, которое, как радий, лучами своими разлагает все живые ткани, всю плоть мира. Оттуда — «победа, победившая мир». Перед этим страшным покаянием мир пал ниц, уничтоженный: вы — святые, мы — грешные; делайте с нами, что хотите, только спасайте.
Таноб — несокрушимый камень, черный алмаз, на котором христианство зиждется. Чем святее, тем чернее; и только изнемогая, святость линяет, сереет; но все-таки черный цвет его никогда не сделается белым, как в Преображении ризы Господни — белее, чем белильщик на земле может выбелить.
Легко покончить с темницею простому здравому смыслу, вне религии; решить, что все эти высунутые языки, кровавые мокроты, припадки падучей — не что иное, как изуверство, напоминающее не столько обитель святых, сколько дом сумасшедших. Но с религиозными переживаниями не так-то легко покончить здравому смыслу. Идите от Меня, проклятые, в муку вечную, — что нам делать с этим приговором самой истины? Ежели не с ликом Христа грядущего, сияющим, как солнце в силе своей, то с отброшенною этим солнцем тенью Христа пришедшего не связана ли тень Таноба? И через все века от Дантова «ада» до «бездны» Паскаля и «подполья» Достоевского не протянулась ли эта тень вплоть до наших сердец? Не все ли мы носим в себе если не на поверхности разума, то в глубине плоти и крови, в мозге костей луч этого монашеского радия, этого черного солнца?
Правда, луч — уже не восходный, а закатный. Таноб — бездонный ров, отделяющий христианство от язычества; благо, что ров этот вырылся; но благо и то, что человечество вышло из него навсегда: скорее выйдет он совсем из христианства, чем вернется в Таноб. Тут наша непоколебимая твердость, наш белый алмаз против черного.
Совершенная любовь изгоняет страх — вот слово, которое осталось только словом. Совершенным страхом изгоняется любовь — вот слово, ставшее плотью христианства, плотью цепенеющей, дрожащей от страха Божиего, как от черной немочи.
«Все, а особенно падшие, должны остерегаться, чтобы не допустить в сердце свое недуг безбожного Оригена, ибо скверное его учение о Божием человеколюбии весьма приятно людям сластолюбивым», так заключает Лествичник слово о темнице и о покаянии вообще. Утверждать, что Бог есть любовь — скверно, а что Бог есть гнев — свято. Кто знает силу страха Твоего по мере ярости твоей? Но ведь это мы знали и до Христа и если ничего не узнали, кроме этого, то зачем Христос? Пойдите, научитесь, что значит милости хочу, а не жертвы. Пошли в темницу и научились, что бескровная милость ужаснее кровавых жертв. Полно, уж не лучше ли совсем без милости? Не лучше ли погибать со «скверным» Оригеном, нежели спасаться с «преподобным» Лествичником?
Во всяком случае, Бог темницы для нас — не Отец, а палач, не человеколюбец, а человекоубийца, не Бог, а дьявол. И не принимая такого Бога, если бы мы даже отреклись от христианства, мы не отречемся от Христа.
«Человек не может узреть красоты внутри себя, пока не возгнушается всякою красотою вне себя и не обесчестит ее. Не может возвести взора прямо к Богу, пока не отречется совершенно от мира», — говорит св. Исаак Сириянин.
Мир — создание Божие, красота Божия, а между тем нельзя человеку соединиться с Богом, не отрекшись от мира, от создания Божиего, не обесчестив мира, красоты Божией. Бог в человеке восстает на Бога в мире. Это противоречие никогда, повторяю, не сознавалось в христианстве с окончательной ясностью, но иногда смутно прощупывалось, как холод железа сквозь ткань. Этой болью пронизана вся плоть христианского мира, как болью от гвоздей — плоть Распятого.
«Как связать мне плоть свою и судить ее? Не знаю. Прежде нежели успею связать ее, она уже освобождается; прежде нежели стану судить ее, примиряюсь с нею; и прежде нежели начну мучить ее, преклоняюсь к ней жалостью. Как мне возненавидеть ту, которую я, по естеству, привык любить? Как освобожусь от той, с которой связан навеки? Как умертвить ту, которая должна воскреснуть со мною? Она — и друг мой, она — и враг мой; она — помощница моя и соперница; она — заступница и предательница. Когда я угождаю ей, она вооружается против меня. Изнуряю ли ее — изнемогает. Успокаиваю ли — бесчинствует. Обременяю ли — не терпит. Если я опечалю ее, то сам буду крайне бедствовать. Если поражу ее, то не с кем будет приобретать добродетель. И отвращаюсь от нее, и обнимаю ее. Какое это во мне таинство? Какое соединение противоположностей?»
Если бы христианство могло остановиться на этом первом «соединении противоположностей», то оно пришло бы к новому откровению Троицы, к последнему соединению Отца и Сына в Духе, соединению, разрешающему антиномию в синтезе. Но в христианстве глубочайшее созерцание двух равных бездн, Духа и плоти, — не длительная остановка, а мгновенное колебание, как на острие иглы: равновесие тотчас нарушается, и колеблющийся падает в одну сторону, именно в утверждение духа как начала святости, и плоти как начала греха. Плоть похотствует на дух, дух же на плоть, сия же друг другу противятся (Гал. V, 7). Эти слова апостола Павла утверждают в понимании христианства не только эмпирическое, но и мистическое разъединение противоположностей, Духа и плоти.
По слову Антония Великого, «первая добродетель человека есть презрение плоти». По слову Божиему, первая добродетель человека есть любовь к Богу. Но для христианства любовь к Богу и есть не что иное, как ненависть к миру, презрение к плоти.
Плоть есть «гной». Просить у Бога плотских благ значит — «просить гноя». Плоть есть грязь — «брение, растворенное кровью и мокротами»: «высохшая грязь не привлекает свиней, умерщвленная плоть не привлекает бесов». Плоть есть труп: душа святого в теле — живая душа в трупе. Не только всякая чувственность, но и всякая чувствительность тела — зло для души. Состояние святости — совершенная бесчувственность, как бы столбняк, превращение тела в камень или обрубок дерева. «Поистине блажен тот, кто приобрел совершенную нечувствительность ко всякому телу, и виду, и красоте, — говорит Лествичпик. — Душа твоя да будет с Господом во всякое время; тело же твое да будет на земле, как изваяние и истукан».
Но и столпник на столпе дышит; а дыхание, биение сердца есть еще остаток телесной чувствительности, остаток зла. «Сущие в теле Богу угодить не могут». Отсюда вывод: «необходимо совлечься тела и быть как бы вне тела». Сначала — как бы, а потом — совсем. Предел самоумерщвления самоубийство, — вот предел христианской святости. «Если тело скажет тебе: великий грех самому себя убивать, то отвечай ему: сам себя убиваю, потому что не могу жить нечисто. Лучше мне умереть, ради непорочности. Сам себя умерщвляю» (Леств., XXII). Русские раскольники, самосожигатели ошибались только потому, что предпочитали самоубийство мгновенное, легчайшее труднейшему, медленному, растянутому на целые десятки лет, и ежедневному, ежесекундному. «Умирай каждый день, чтобы жить», — говорит Антоний Великий. «Будь мертв в жизни сей, чтобы жить по смерти. Молись так: сподоби меня, Господи, возненавидеть жизнь мою», — говорит Исаак Сириянин. Умертвивший плоть свою есть «блаженный и живой мертвец» (Леств., IV). «Тело свое так изможди, чтобы оно было похоже на тело, лежащее в смертной болезни» (Ант. Великий). Один постник «казался подобным тени: лицо его так исхудало, что не было в нем и двух перстов» (Ис. Сир., X). Но и двух перстов много — от двух к одному, от одного к волоску, от волоска к совершенному уничтожению плоти.