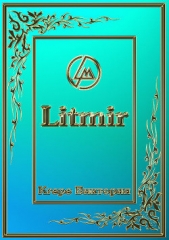Не мир, но меч

Не мир, но меч читать книгу онлайн
В данном издании вниманию читателя предлагаются некоторые из наиболее значительных произведений русского писателя, одного из зачинателей русского декаденства, Д.С.Мережковского (1866–1941). В книгу включены статьи, литературно-критические и религиозно-философские исследования автора.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Но согласится ли народ с этой легкостью? Отречется ли от Бога для того, чтобы отречься от царя? А что царь не от Бога, что самодержавие, царство человекобожества несовместимо с истинною Церковью, царством богочеловечества, — этого народ не может понять, оставаясь в православной церкви, для которой смешение обоих царств — неодолимый соблазн. И если бы даже в самой церкви произошло разделение, новый раскол, и одна часть ее, отрекшись от самодержавия, примкнула к революции, а другая, лишившись светского владыки, самодержца, избрала владыку духовного — патриарха, то в обоих случаях церковь одинаково изменила бы подлинной, не только исторической, но и мистической сущности православия, с тою лишь разницей, что в первом — уклонилась бы в протестантство, во втором — в католичество. Но достаточно двух-трех мучеников за истинную веру, за «царя православного», чтобы в них сосредоточилась вся жизненная сила церкви, чтобы, наконец, встала она, как расслабленный, с одра своего, хотя и не по слову Господа, и осуществила такую реакцию, такой террор, что перед ними побледнеют все ужасы нынешних «черных сотен». Во всяком случае, народу будет тогда предстоять окончательный выбор между возвращением к самодержавию в какой-то новой, чудовищной форме папоцезаризма, Пугачева, соединенного с Никоном, и между отречением от православия. Тогда и революция сойдет с теперешней плоскости своей, социально-политической, в глубину религиозную, которая, впрочем, включит и эту плоскость, как третье измерение включает второе.
В настоящее время едва ли возможно представить себе, какую всесокрушающую силу приобретет в глубинах народной стихии революционный смерч. В последнем крушении русской церкви с русским царством не ждет ли гибель Россию, если не вечную душу народа, то смертное тело его — государство? И не наступят ли тогда те дни, о которых сказано: если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но сократятся, ради избранных.
Избранные есть уже и теперь как в русском народе, так и в русском обществе — это все, «настоящего града не имеющие, грядущего града взыскующие», все мученики революционного и религиозного движения в России. Когда эти два движения сольются в одно, тогда Россия выйдет из православной церкви и самодержавного царства во вселенскую церковь единого первосвященника и во вселенское Царство единого царя — Христа. Тогда скажет весь русский народ вместе со своими избранными: Да приидет Царствие Твое.
ПОСЛЕДНИЙ СВЯТОЙ
На парижских улицах, зимою, около шести часов вечера — самое сильное движение. Толпы прохожих, кареты, камионы, омнибусы, трамваи, автомобили сливаются в темный, непрерывный, кипящий, грохочущий поток, который несется между громадами домов, как между уступами горного ущелья. Поезда по чугунным пролетам мостов гремят над головой, и под ногами земля гудит от подземной железной дороги.
Сколько путей сообщения — спешат, бегут, летят, но достигнуть друг друга не могут и остаются безнадежно разобщенными, более одинокими в толпе, чем в пустыне. Все вместе, и каждый — один. Я и они. Я и оно, чуждое, черное, мертвое. Победив стихии природы, люди сами стали стихией. Человеческие волны приходят, уходят, подымаются, падают. Я не знаю никого, и меня никто не знает. Все лица одинаковы, нельзя отличить одно от другого. Мелькнет и пропадет. Был и нет. Нет никого и меня нет. Люди — капли в водопаде, который низвергается в бездну — в ничтожество. Все едино в этом ничтожестве.
Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне и Я в Тебе. Свет лица Божеского, которое соединяет все лица человеческие, — угасает, почти угас в этой толпе, как вечерний свет в свете электрических солнц и разноцветно-огненных реклам на темном небе. Небо и есть та страшная бездна, в которую низвергается водопад человеческий.
И дивлюсь я удивлением великим, как сказано в Апокалипсисе. И вспоминается мне маленький, сгорбленный, старичок в белом балахончике, в мужичьих лаптях, в убогой камилавке, с медным крестом на груди и тяжелой сумой за плечами, который идет, подпираясь топориком, по мшистой тропинке в дремучем лесу — Серафим Саровский, последний святой.
Он — величайшая противоположность этой толпе. Лицо его не пропадет среди лиц человеческих. Он отличен от всех, он — один-единственный. Был, есть и будет. Вечный, подлинно-сущий. Ушел от всех и спасся. Проклял этот город и все города мира, как Вавилон великий, воплощение зверя; проклял всех и остался один с Богом. Он и Бог — в этом святость.
Что же мне делать? Спасаться одному или погибать со всеми? Я не могу проклясть всех, потому что Бог во всех; я не могу проклясть святого старичка, потому что, как во всех, так и в нем, в одном-единственном — тоже Бог. Я не хочу ни Бога без мира, ни мира без Бога.
Бог так возлюбил мир, что Сына Своего Единородного отдал, чтобы спасти мир. — Как же не любить мне того, что возлюбил Бог?
Это с одной стороны, а с другой: Не любите мира, ни того, что в мире. — Весь мир лежит во зле. Царство Христа — не от мира сего. Князь мира сего — диавол.
Не Бог, а дьявол создал мир, это сказать для христианина — кощунство, а делать — святость, ибо не может христианин угодить Богу, не отрекшись от мира, не возненавидев мир, — не какую-либо часть мира, а именно весь мир, как царство дьявола. «Приходящие к сему подвигу (к отречению от мира) должны всего отречься, все презреть, всему посмеяться, все отвергнуть», — говорит Иоанн Лествичник.
Что же такое христианство — принятие или отвержение, проклятие или благословение мира?
Тут — противоречие, не только не разрешенное, но и не сознанное, решающее, однако, последние судьбы мира.
Христианство должно включить весь мир — плоть, пол, общественность — легко сказать, но как сделать? Об этом говорили все реформации и все реставрации, так называемые «возрождения христианства», от Ламенне и Лакордера до Вл. Соловьева и Серг. Булгакова. Говорили, но не сделали. Все попытки соединить христианство с миром ни к чему не приводили, кроме ущерба для обеих сторон: или христианство глотало мир, как нож; или мир урезывался христианством, как ножом. Это в худшем случае, а в лучшем — оба начала, соединяемые, не соединились, а только смешивались, как вода с маслом в сосуде, который взбалтывают: отстоится смесь, и масло всплывет над водою, христианство — над миром.
Дерево узнается по плодам, религия — по святости. Не слова, а дела, не учение, а святость — вот подлинная мера всякой религии.
Вопрос о том, соединимо ли христианство с миром, можно решить, только определив отношение христианской святости к миру — к плоти, к полу, к общественности.
Следует, однако, помнить, что говорить о христианстве еще не значить говорить о Христе.
Слово, ставшее плотью, — есть откровение Божеской сущности, которая воплощается в мире, становится имманентною миру. Но христианская святость — отречение от мира, доведенное до предела своего — до отрицания мира, как начала, несоизмеримого с Богом, — предполагает откровение Божеской сущности, не имманентной, а трансцендентной миру. Если же это действительно так, то не могло ли бы оказаться христианство, по крайней мере в некоторых точках своей метафизики, — страшно сказать, но страшнее молчать, — противоположным Христу?
В Египте, недалеко от Александрии, в пустыне Фиваидской, находилась под началом одного великого аввы, «светила светил», обитель кающихся, называемая Танобом, или темницею. Иоанн Лествичник, живший на горе Синайской в конце VI века, посетил Таноб, и вот что он рассказывает:
«Видел я, что одни из сих невинных осужденников стояли всю ночь до утра под открытым небом, не передвигая ног, со связанными позади руками, и качались жалким образом, одолеваемые сном, но не давали себе ни мало покоя. Иные томили себя зноем, иные — холодом. Иные, отпив глоток воды, тотчас же переставали пить, только бы не умереть от жажды. Иные, вкусив хлеба, далеко отталкивали его от себя, говоря, что недостойны пищи людской, потому что делали скотское. Иные рыдали о душах своих, как о мертвецах. Иные удерживали рыдания и только изредка, когда уже не могли терпеть, внезапно кричали. Иные сидели, поникши к земле и непрестанно колебля головами, подобно львам, рыкали и выли протяжно. Иные, придя в исступление, становились бесчувственны. Иные молились о том, чтобы Бог наказал их проказою, иные — о том, чтобы впасть в беснование, только бы не быть осужденными на муку вечную. И ничего не слышно было, кроме слов: „Увы, увы! Горе, горе!“ Видны были глаза тусклые и впалые; веки, лишенные ресниц; щеки, исцарапанные ногтями; лица бледные, как у трупов; перси, болящие от ударов; мокроты кровавые, извергаемые от биения в грудь; языки воспаленные и выпущенные изо рта, как у псов. Все темно, все грязно, все смрадно. Я же, видя и слыша у них все это, едва не пришел в отчаяние».