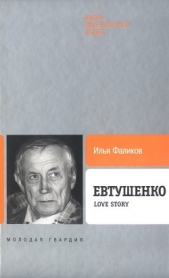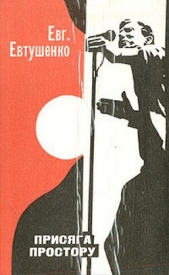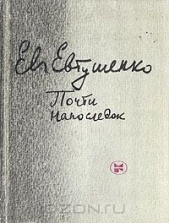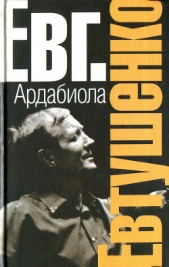Талант есть чудо неслучайное
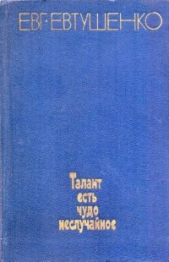
Талант есть чудо неслучайное читать книгу онлайн
Евгений Евтушенко, известный советский поэт, впервые издает сборник своей критической прозы. Последние годы Евг. Евтушенко, сохраняя присущую его таланту поэтическую активность, все чаще выступает в печати и как критик. В критической прозе поэта проявился его общественный темперамент, она порой открыто публицистична и в то же время образна, эмоциональна и поэтична.Евг. Евтушенко прежде всего поэт, поэтому, вполне естественно, большинство его статей посвящено поэзии, но говорит он и о кино, и о прозе, и о музыке (о Шостаковиче, экранизации «Степи» Чехова, актрисе Чуриковой).В книге читатель найдет статьи о поэтах — Пушкине и Некрасове, Маяковском и Неруде, Твардовском и Цветаевой, Антокольском и Смелякове, Кирсанове и Самойлове, С. Чиковани и Винокурове, Вознесенском и Межирове, Геворге Эмине и Кушнере, о прозаиках — Хемингуэе, Маркесе, Распутине, Конецком.Главная мысль, объединяющая эти статьи, — идея долга и ответственности таланта перед своим временем, народом, человечеством.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
утверждение будущего. Твардовский не был рожден трибунным поэтом, например, не
любил читать стихи с эстрады, но сила гражданского духа придала его поэзии,
независимо от желания автора, черты трибунности.
Если говорить о чисто профессиональных особенностях мастерства Твардовского,
то не лишне заметить, что его творчество является одним из доказательств того, что
поэзии вовсе не противопоказана повествова
«4
тельность, сюжетность. Формула «поэзия — это то, что не 1ьзя высказать прозой»
вообще, на мой взгляд, сомнительна. Поэзия — это то, что можно высказать про-iDii,
но лучше стихами. А если высказанное стихами мы не можем постфактум поставить в
прозе, то это признак мастерства поэта, а вовсе не пропасти между ;11сй и прозой. У
меня есть несколько любимых сти-котворений мировой поэзии. Это «Я вас любил,
любовь еще, быть может...» Пушкина, «Наедине с тобой, брат...» Лермонтова,
«Девушка пела в церковном хо-|н..» Блока, «О, знал бы я, что так бывает...» Пастер-
нака, «Завещание» Вийона, «Мэри Глостер» Киплинга — и среди них стихотворение
Твардовского «Две строчки»:
Из записной потертой книжки Две строчки о бойце-парнишке, Что был в сороковом
году Убит в Финляндии на льду.
Лежало как-то неумело По-детски маленькое тело. Шинель ко льду мороз прижал.
Далеко шапка отлетела.
Казалось, мальчик не лежал,
А все еще бегом бежал,
Да лед за полу придержал...
Среди большой войны жестокой, С чего — ума не приложу, — Мне жалко той
судьбы далекой, Как будто мертвый, одинокий, Как будто это я лежу, Г"риме-;зший,
маленькие, убитый На той войне незнаменитой, Забытые, маленький лежу.
Заметьте, что все выше перечисленные мной стихи, пожалуй, можно пересказать и
прозой, — разумеется, хорошей прозой. В них есть элемент дневниковой по-
нествовательности, они не отягощены сложными метафорами, не построены на
суперсногсшибательных рифмах. Архитектоника этих стихов сугубо дорическая, без
гидов какого бы то ни было барочного украшатель-Ства. Но в этой дорической
простоте есть своя му-|ыкальная возвышенность, которая и является подлинной
поэзией.
85
Стихотворение Твардовского «Две строчки» могло бы быть написано и прозой — в
виде куска какого-нибудь романа, повести или даже в виде самостоятельной зарисовки.
Но поэзия тем и сильна, что тему прозаической зарисовки может довести путем
концентрации до состояния музыки. Шостакович однажды сказал мне, что считает
поэзию высшим жанром искусства. «Поэзия обладает и силой музыки, но в то же время
и силой точности слов, силой точности адреса».
Это соединение силы музыки и силы точности слов есть в одном из лучших
стихотворений Твардовского «Я убит подо Ржевом...», хотя вторая половина значи-
тельно слабее мощного запева. В этом стихотворении опять проявилось одно из
ценнейших качеств Твардовского — умение почувствовать себя не только собой, но и
кем-то другим. «Как будто это я лежу» — не просто стихотворная строчка, а принцип
отношения истинного поэта к жизни. В стихотворении «Поездка в Загорье» есть такие
строки:
Пели женщины вместе, И Петровна — одна, И была ее песня — Старина-старина.
И она ее пела, Край платка теребя, Словно чье-то хотела Горе взять на себя.
Да, поэзия в понимании Твардовского должна быть такой Петровной, которая хочет
взять на себя чье-то горе. В этом — ключ поэзии Твардовского, ключ его души
гражданина.
Мне посчастливилось знать Твардовского лично. Человек он был трудный. Но
«простим угрюмство...».
То, что казалось нетерпимостью, на самом деле было высокой требовательностью.
У меня хранятся его пометки на моих мальчишеских стихах 48-го года. Напротив
строчек «Здесь до краев лукошко неба набито ягодами звезд» размашисто запечатлено:
«Архискверно». Он разговаривал всегда о стихах без редакторской дипломатии,
подчеркнуто резко, доходя иногда даже до прямых грубостей. Однажды он чуть не
довел меня до слез, вылив ушат холодной воды на мою голову в при
86
сутствии всей редколлегии: «Что вы все о себе да о себе пишете!»
Его понимание поэзии как Петровны не выносило в поэзии того, что хоть немного
походило на «ячество». Этим, на мой взгляд, он обеднял свою lino, ибо без
рассвобожденного «я» и объективная действительность ограниченней. По-ссенински
рвануть рубаху на груди ему было не дано. Но такой он был человек, таким он был и
поэтом, и даже его ограниченность была свидетельством цельности характера.
Я не всегда соглашался с ним, но, честно говоря, побаивался его. А это
полезнейшее чувство для молодого поэта — побаиваться хотя бы чьего-то
профессионального сурового слова. Беда многих сегодняшних молодых Поэтов
заключается в том, что они не слишком побаиваются старших. В поэзии сегодня
недостает строгого дядьки, к которому могли бы быть обращены пастер-Наковские
строки: «И я затем, быть может, не умру, что. до смерти теперь устав от гили, Вы сами,
было Ьремя, поутру линейкой нас не умирать учили».
Мне еще сорока не стукнуло, а уже столько дорогих Могил за плечами. Конечно,
все эти люди внутри меня, НО все-таки даже самая благоговейная память об ушедших
не заменит их живого присутствия.
Первым поэтом, которого я лично знал и потерял, был Луговской — зычный
«бровеносец советской поэ-|ии», как шутили его друзья, монументальный и в то Же
время слабохарактерный, безобидно фанфаронистый И подкупающе
доброжелательный. Перед его гробом я никак не мог уяснить, что больше не услышу
его раскатистого, самозаслушивающегося голоса, не увижу его бровей, реявших, как
седые чайки, над барельефным лицом. Словно вынули из жизни что-то большое,
доброе, беззащитное... Потом — смерть Пастернака. Незадолго до кончины он сказал
мне: «Мой вам совет: Никогда не предсказывайте в стихах свою трагическую смерть.
Сила слова такова, что, предсказав, вы сами horn чески поведете себя к
предсказанному. Подумайте, п.ко в русской поэзии было несчастий от самопреданий.
Создайте счастливый прецедент». Потом, ког-I написал строки: «На веревке я повисну
—не noli шусь никогда», у меня как будто сняло с плеч что-то
46
пастернаковской рукой, протянутой сквозь время. Но его все-таки нет, и недостает
чего-то светящегося, дарующего.
Смерть Светлова, озарявшего своей улыбкой мою поэтическую юность.
«Некоторые поэты напоминают мне паровозы, которые вместо того, чтобы тратить пар
на движение, тратят его на свистки», — говорил он. Даже на смертном одре шутил:
«Рак уже есть, только пива к нему не хватает». Как недостает его улыбки...
Смерть Хикмета — благороднейшего Дон-Кихота революции, всегда болевшего
душой за тех, кому трудно. Неожиданно звонил: «Слушай, брат, я тут получил уйму
денег. Тебе не нужно?.. Правда не нужно? А может быть, знаешь тех, кому нужно?»
Больше он уже никогда не позвонит.
Смерть Ксюши Некрасовой — золушки русской поэзии, причитавшей, по
выражению Слуцкого, «голосом сельской пророчицы», единственные в своем роде
стихи. Теперь она уже не будет слишком «назойливой» для тех, кому она «докучала».
Смерть Заболоцкого, замкнутого одинокого рыцаря поэзии, предупредившего всех
нас о недолговечности поэтических фейерверков: «Отзвенит и погаснет ракета,
потускнеют огней вороха. Вечно светит лишь сердце поэта в целомудренной бездне
стиха». Без его дисциплинирующего физического присутствия анархия формы в поэзии
чувствует себя еще безнаказанней. Смерть Яшина — мучающегося вологодского
правдолюбца с неистовыми раскольничьими глазами. Его нет, и сражающаяся совесть
уже не обопрется на его товарищескую руку.
И вот — смерть Твардовского.