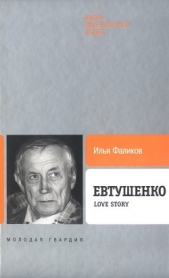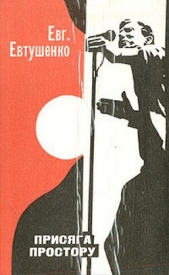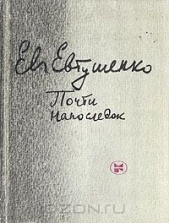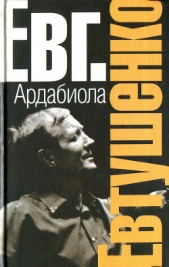Талант есть чудо неслучайное
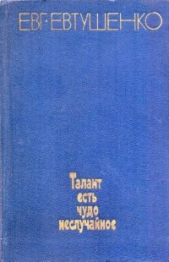
Талант есть чудо неслучайное читать книгу онлайн
Евгений Евтушенко, известный советский поэт, впервые издает сборник своей критической прозы. Последние годы Евг. Евтушенко, сохраняя присущую его таланту поэтическую активность, все чаще выступает в печати и как критик. В критической прозе поэта проявился его общественный темперамент, она порой открыто публицистична и в то же время образна, эмоциональна и поэтична.Евг. Евтушенко прежде всего поэт, поэтому, вполне естественно, большинство его статей посвящено поэзии, но говорит он и о кино, и о прозе, и о музыке (о Шостаковиче, экранизации «Степи» Чехова, актрисе Чуриковой).В книге читатель найдет статьи о поэтах — Пушкине и Некрасове, Маяковском и Неруде, Твардовском и Цветаевой, Антокольском и Смелякове, Кирсанове и Самойлове, С. Чиковани и Винокурове, Вознесенском и Межирове, Геворге Эмине и Кушнере, о прозаиках — Хемингуэе, Маркесе, Распутине, Конецком.Главная мысль, объединяющая эти статьи, — идея долга и ответственности таланта перед своим временем, народом, человечеством.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
ватость на стене, каждую трещинку на потолке. Но в этом доме, в спальне ее матери,
висела картина, Н шбражавшая дуэль Пушкина. «Первое, что я узнала
38
о Пушкине, — это то, что его убили... Дантес возненавидел Пушкина, потому что
сам не мог писать стихи, и вызвал его на дуэль, то есть заманил на снег и там убил его
из пистолета в живот. Так с трех лет я твердо узнала, что у поэта есть живот... С
пушкинской дуэли во мне началась сестра. Больше скажу — в слове «живот» для меня
что-то священное, даже простое «болит живот» меня заливает волной содрогающегося
сочувствия, исключающего всякий юмор. Нас этим выстрелом всех в живот ранили».
Так внутри даже любимого отеческого дома, внутри трехлетней девочки возникло
чувство бездомности. Пушкин ушел в смерть — в невозвратимую, страшную, вечную
бездомность, и для того, чтобы ощутить себя сестрой ему, надо было эту бездомность
ощутить самой. Потом, на чужбине, корчась от тоски по Родине и даже пытаясь
издеваться над этой тоской, Цветаева прохрипит, как «раненое животное, кем-то
раненное в живот»:
Тоска по родине! Давно Разоблаченная морока! Мне совершенно все равно — Где
— совершенно одинокой
Быть, по каким камням домой Брести с кошелкою базарной В дом, и не знающий,
что — мой, Как госпиталь или казарма...
Она даже с рычанием оскалит зубы на свой родной язык, который так обожала,
который так умела нежно и яростно мять своими рабочими руками, руками гончара
слова:
Не обольщусь и языком Родным, его призывом млечным. Мне безразлично — на
каком Непоннмаемой быть встречным!
Дальше мы снова натыкаемся на уже процитированные «домонснавистнические»
слова:
Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст. . Затем следует еще более отчужденное,
надменное: И все — равно, и все — едино...
38
I
И вдруг попытка издевательства над тоской по ро-днне беспомощно обрывается,
заканчи|,аясь гениальным по своей глубине выдохом, переворачиваю1ЦИМ весь смысл
стихотворения в душераздираЮщую трагедию любви к Родине:
Но если по дороге — куст Встает, особенно — рябина
И все. Только три точки. Но в этих точках — мощное, бесконечно продолжающееся
во времеНН) немое признание в такой сильной любви, на какую неспособны тысячи
вместе взятых стихотворцев, пиШуших не этими великими точками, каждая из которцх
как капля кро-I,и, а бесконечными жиденькими словамм псевдопатрио-шческие
стишки. Может быть, самыц высокий патриотизм— он именно всегда таков: точками, а
Нс пустыми словами?
И все-таки любовь к дому, — но через подвиг бездомности. Таким подвигом была
вся жизнь Цветаевой. Она и в доме русской поэзии, раздельном на гостиные, салоны,
коридоры и литературные Кухни, не очень-то уживалась. Ее первую книжку «вечерний
альбом» похвалили такие барды, как Брюсов., Гумилев, считавшиеся тогда
законодателями мод, н похвалили с некоторой снисходительностью, прикрывавшей
инстинктивную опаску. От еще совсем юнй Цветаевой шел тревожный запах огня,
угрожающего внешней налаженности этого дома, его перегородкам, кОТОрЫе легко
могли воспламениться. Цветаева недаром СравНила свои стихи с «маленькими
чертями, ворвавшимися в святилище, где сон и фимиам». Она, правда, не Доходила до
такого сознательного эпатажа, как футуристы, призывавшие сбросить Пушкина с
парохода современности. Но однако же услышать от двадцатилетней девчонки такие
самонадеянные строки, как, например
Разбросанным в пыли по магазимам (Где их никто не брал и не Серет!) Моим
стихам, как драгоценна винам, Настанет свой черед—
было не совсем приятно поэтам, уверенным в драгоценности стихов только из
собственного винограда. В ней было нечто вызывающее, в этой Девчонке. Вся поэзия,
73
например, Брюсова, была как аккуратно обставленная полумузейная гостиная в
Доме Поэзии.
А поэзия Цветаевой не могла быть ни вещью в этом доме, ни даже комнатой — она
была вихрем, ворвавшимся в дом и перепутавшим все листочки эстетских стихов,
переписанных каллиграфическим почерком. Впоследствии Цветаева скажет: «Всему
под небом есть место — и предателю, и насильнику, и убийце, а вот эстету — нет! Он
не считается, он выключен из стихии, он — нуль». Цветаева, несмотря на свой
кружевной воротничок недавней гимназистки, явилась в Дом Поэзии как цыганка, как
пушкинская Мариула, с которой она любила себя сравнивать. А ведь цыганство — это
торжествующая над домовитостью бездомность. Уже в первых цветаевских стихах
была неизвестная доселе в русской женской поэзии жесткость, резкость, впрочем,
редкая и даже среди поэтов-мужчин. Эти стихи были подозрительно неизящны.
Каролина Павлова, Мирра Лохвицкая выглядели рядом с этими стихами как рукоделие
рядом с кованым железом. А ведь ковали-то еще совсем девичьи руки! Эстеты
морщились: женщина-кузнец — это неестественно. Поэзия Ахматовой все-таки была
более женственна, с более мягкими очертаниями. А тут — сплошные острые углы!
Цветаевский характер был крепким орешком — в нем была пугающая воинственность,
дразнящая, задиристая агрессивность. Цветаева этой воинственностью как бы искупала
сентиментальную слюнявость множества томных поэтессочек, заполнявших в то время
своей карамельной продукцией страницы журналов, реабилитируя само понятие о
характере женщин, показывая своим примером, что в этом характере есть не только
кокетливая слабонервность, шармирующая пассивность, но и твердость духа, и сила
мастера.
Я знаю, что Венера — дело рук, Ремесленник, — я знаю ремесло.
В Цветаевой ничего не было от синечулочного суфражизма — она была женщиной
с головы до пят, отчаянной в любви, но сильной и в разрывах. Мятежни-чая, она иногда
признавала «каменную безнадежность всех своих проказ». Но — независимостью
всего своего творчества, своего жизненного поведения она как еще
74
никто из женщин-поэтов боролась за право женщин иметь сильный характер,
отвергая устоявшийся во многих умах женский образ женственности, саморастворения
в характере мужа или любимого. Взаиморастворение двоих друг в друге — это она
принимала как свободу и так умела радоваться пусть недолгому счастью:
Мои! — и о каких наградах. Рай — когда в руках, у рта — Жизнь: распахнутая
радость Поздороваться с утра!
Где же она — мятежница, гордячка? Какие простые, выдышанные, любящие слова,
под которыми подпишется любая счастливая женщина мира. Но у Цветаевой была своя
святая самозаповедь: «Я и в предсмертной икоте останусь поэтом!» Этого она не
отдавала никому ни за какое так называемое счастье. Она не только умела быть
счастливой, но умела и страдать, как самая обыкновенная женщина.
Увозят милых корабли,
Уводит их дорога белая...
И стон стоит вдоль всей земли:
«Мой милый, что тебе я сделала?»
И все-таки счастью подчиненности в любви она предпочитала несчастье свободы.
Мятежница просыпалась в ней, и «цыганская страсть разлуки» бросала ее о бездомное
«куда-то»:
Как правая и левая рука — Твоя душа моей душе близка.
Мы смежены блаженно и тепло, Как правое и левое крыло.
Но вихрь встает — и бездна пролегла От правого — до левого крыла!
Что было этим вихрем? Она сама. То, что блюстители морали называют
«вероломством», она называла верностью себе, ибо эта верность — не в подчинении, а
в свободе.
Никто, в наших письмах роясь, Не понял до глубины, Как мы вероломны, то есть —
Как сами себе верны.
40
Я не знаю ни одного поэта в мире, который бы столько писал о разлуке, как
Цветаева. Она требовала достоинства в любви и требовала достоинства при рас-
ставании, гордо забивая свой женский вопль внутрь и лишь иногда его не удерживая.