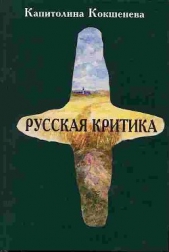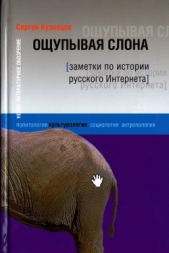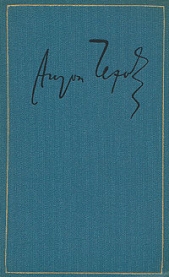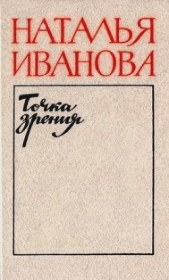Вместо жизни

Вместо жизни читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Это, вообще говоря, отдельный сюжет – раскол в русском освободительном движении; о нем предпочитали не вспоминать, поскольку милые бранятся – только тешатся. А ведь антагонизм между либералами и самодержавием был в шестидесятых-семидесятых годах не так силен, как антагонизм между «Современником» и «Делом». Приводя наиболее близкую аналогию, заметим, что нынешние разоблачители Путина, действующие под патронатом высланных олигархов, не так ненавидят Путина, как Михаила Леонтьева или Максима Соколова. Так вот, советское литературоведение старательно обходило историю о том, как поссорились Михаил Евграфович с Дмитрием Ивановичем (Писарев и Благосветлов, оба яростные радикалы, облаивали весь кружок «Современника» и упрекали чуть ли не в предательстве). Писарев и Благосветлов – а за ними и поколения истинных борцов, нигилистов, террористов – Россию именно ненавидели, и тем ужаснее было положение Щедрина, который всей этой гоп-компании обречен был сочувствовать в силу ее печального положения. Ведь Писарев-то в крепости сидит! Ведь пока Салтыков пишет «За рубежом», как раз в марте 1881 года и убивают Александра Освободителя – и вся пресса, включая интеллигентскую, умеренную, просветительскую, оказывается в загоне! Салтыков-Щедрин со своей более чем умеренной социальной программой, заключающейся в пробуждении, развитии, формировании сильной интеллектуальной оппозиции режиму и пр.,- оказывается жертвой политических репрессий, с которых начинается новое царствование; наступает чрезвычайно тухлое время, и сказать спасибо за это надо не только Победоносцеву, но и врагам режима, абсолютно переставшим стесняться в средствах. В результате все вопросы опять остались без ответа, реформы погрязли, только начавшийся диалог внутри общества пригашен… и все опять наблюдают за отчаянной борьбой плохого с худшим: нигилистический террор против террора государственного! И русский интеллигент как человек приличный обречен быть на стороне террористов-мальчиков, террористов-святых… но если у Достоевского мы можем еще найти пример такого святого или хоть симпатичного террориста, то у Щедрина ни одного такого образа нет. Он отлично понимает, что почем, и не покупается на этот легчайший способ решения всех проблем; он явственно видит, что российская история опять закручивается в воронку, что черное облако опустилось и на тех и на этих… и в последней главе «За рубежом» содержится абсолютно точная оценка ситуации; в советских изданиях эту главу предпочитали не комментировать вовсе или комментировать с точностью до наоборот.
Там присутствует знаменитый диалог «Торжествующая свинья, или Разговор свиньи с правдою». У нас свинью традиционно интерпретировали как самодержавие, или цензуру, или всяческое угнетение, тогда как свинья всего лишь обыватель, для которого превыше всего хлевные ценности; а пожалуй, что и народ, который как раз впал в период «угрюмого недоверия».
«Поди-ка подступись к этому народу! Ты думаешь о наслаждениях мысли, чувства и вкуса, о свободе, об искусстве, об литературе, а он свое твердит: жрать! Не разнообразно, но зато как определенно! Вот он говорит, что книги истреблять надо,- войди-ка с ним в единение во имя истребления книг!»
Однако главный-то пафос этой последней главы направлен отнюдь не против народа, с которым Щедрин вполне еще может договориться. Главное вот где:
«Но всероссийские клоповники не думают об этом. У них на первом плане личные счеты и личные отмщения. Посевая смуту, они едва ли даже предусматривают, сколько жертв она увлечет за собой: у них нет соответствующего органа, чтобы понять это. Они знают только одно: что лично они непременно вывернутся. Сегодня они злобно сеют смуту, а завтра, ежели смута примет беспокойные для них размеры, они будут, с тою же холодною злобой, кричать: пали.
Очевидно, тут речь идет совсем не об единении, а о том, чтоб сделать из народа орудие известных личных расчетов. ‹…› Что будет тогда – клоповники сами не уясняют себе. Они преследуют лишь ближайшие и непосредственные цели. Покамест они удовлетворены уже тем, что ненавидеть могут свободно. И действительно, они ненавидят все, за исключением своей ненависти. Нельзя представить положение более ужасное, нежели это пустоутробное, пустомысленное и клокочущее самодовлеющей злобой существование».
Вы полагаете, это о злобе властей и преданной им прессы (нет слов, отвратительной)? Да нет же, это о тех, кто клевещет на интеллигенцию, пытаясь ее замазать в собственные дела; это о клоповнике радикальном, для которого народ – совершенно пустой звук, а все разговоры о единении с ним – фигура прикрытия. Пожалуй, именно эту компрометацию русской интеллигенции, которую уже в восьмидесятых годах начало местное освободительное движение, Щедрин и называет весьма недвусмысленно «клеветой»… а в результате Некрасов, Щедрин и иже с ними оказались едва ли не виновниками Октябрьского переворота!
Этих двух истовых патриотов и неисправимых интеллигентов, равно презиравших государственную и либеральную ложь, пора отмазывать от русского освободительного движения.
Салтыков-Щедрин очень хорошо понимал, что русский либерализм смешон и бессилен; сказка его «Карась-идеалист» – произведение во многом исповедальное. Понимал он и то, что на народ плоха надежда: сказка его «Коняга» – довольно скептический ответ на вопрос о перспективах народного самосознания. Главное же – он понимал совершенно отчетливо, что Россия с какой-то маниакальной последовательностью избегает прямого разговора о своей природе, цели и о собственном положении: она готова отвлекаться на что угодно – лишь бы не всматриваться в себя, потому что увидеть можно нечто такое… рассудка лишишься! Порфирий Головлев один раз взглянул – и тотчас помер. И если Щедрин был в самом деле учеником Гоголя, то усвоил он у него по-настоящему только одно: ужас перед абсолютной, зияющей пустотой, которую при пристальном вглядывании можно обнаружить во глубине России. Пустота на месте принципов, совести, чести, цели, мысли – все как в сказке «Пропала совесть», все как в истории про «Вяленую воблу», у которой внутри не осталось ничего… и так ли ей стало хорошо!
И вся русская революция, начало которой он застал (советские филологи с гордостью писали о том, что в год смерти Щедрина молодой Ильич уже штудировал «Капитал» – лучше б он «За рубежом» штудировал или хоть «Убежище Монрепо»),- вся эта русская революция представлялась ему точно таким же отвлечением от главного, самозабвением, наркотиком, черным облаком; а тот единственный социальный слой, к которому он обращался, был совершенно порабощен «шкурным интересом», идеей выживания. Вот почему Щедрин, в одиночку тащивший воз великой русской литературы после смерти Некрасова и Достоевского, во время творческого кризиса Толстого, во время поденщицкой молодости Чехова,- в 1889 году устал, надорвался и умер, не в силах одолеть противоречия между отвращением и любовью.
Вероятно, он был последний титан русского Возрождения, по-настоящему любивший Россию – и не знавший, за что, собственно. Толстой ее давно уже отождествил с государством, да и никогда, по большому счету, не жаловал. А Чехов отделывался разговорами о завтрашнем дне, старательно избегая всякой лирики при разговоре о дне сегодняшнем. Прочие же имели дело с сусальными образами разной степени достоверности; один Блок чувствовал что-то благодаря дворянским корням и шахматовскому воспитанию – и тоже умер, не в силах разобраться.
Чтобы в ней жить и успешно действовать, надо ее не любить. Чтобы хорошо о ней писать – любить обязательно… но тогда, извините, жить уже не получается. И каждый, как водится, выбирает по себе.
2003 год
Дмитрий Быков