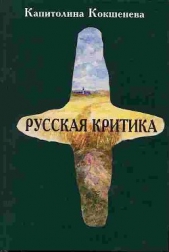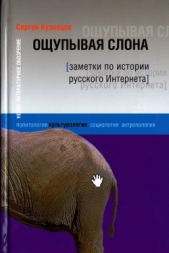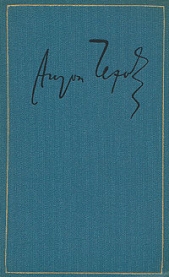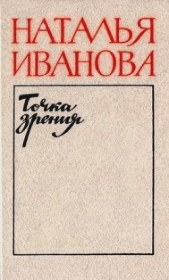Вместо жизни

Вместо жизни читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Короче, так мне стало его жалко, что я в непостижимом порыве немедленно купил весь десятитомник, разложил его по двум прочным пакетам с рекламой любимого «Первака» и в таком виде свозил в Крым, где, в сущности, не читал ничего другого. Десятитомник являл собою надрывающую сердце картину титанической борьбы текста с комментариями. Никакому Лермонтову, никакому Бунину так не доставалось от советских интерпретаторов. Одна вступительная статья способна была навеки отвадить школьника от Салтыкова-Щедрина, а уж примечания, трактующие каждое слово с точностью до наоборот,- тема отдельная и скорбная. Неделю почитавши «великого русского сатирика» вдали от злобы дня, я понял, что писателя надо спасать. Подозреваю, что сегодня Салтыков-Щедрин – самый насущный русский классик, опередивший свой век гораздо радикальнее, чем его великие современники; подозреваю, что для больного интеллигентского сознания, оказавшегося в который уж раз на распутье, Щедрин единственно целебен – и что, кроме него, никто нам сегодня не объяснит нашего истинного положения… но его надо читать. Читать не для того, чтобы, подобно Ленину, иной его образ или речевой оборот прихватить в собственный арсенал,- а для того, чтобы гордый и стоический его опыт упас нас от новых соблазнов.
Ведь какой ему создали образ-то? Мариэтта Шагинян призналась откровенней прочих: я, говорит, еще сочинений его не читала, а уж увидела фотографию – и была потрясена навеки. Такой скорбный, такой гневный и требовательный взгляд! И все его сочинения потом не производили на меня такого впечатления, как этот портрет. Признание симптоматичное и очень женское: Шагинян была хоть и марксистка, а женщина, ей портрет завсегда важней сочинений. Но именно так, по-женски, трактовало Щедрина и все советское литературоведение: получался образ вечного страдальца, день и ночь вертящегося на своем одре и вскрикивающего от боли при любой новой гнусности самодержавия. И так-то ему тошно, и так-то сердце его болит и желчью обливается – положительно, у человека вторая печень вместо сердца! Гневный, страстный, обличительный – и любит-то он Россию, и ненавидит еще пуще, и серная кислота так и брызжет с его пера! Никакой личной жизни, одна журналистика. Салтыкову-Щедрину не повезло еще в одном отношении: он почти ни в чем не заблуждался. Вернейший его ученик Михаил Успенский как-то объяснил мне принцип, по которому он отбирал книги в семидесятые годы: ежели в предисловии написано, что автор заблуждался – дело, этого мы берем; а ежели все у него обстоит правоверно, то пусть его полежит на полочке. С точки зрения советского литературоведения, Щедрин был кругом прав – разве что недостаточно знал жизнь фабричного пролетариата да на старости лет, по слабости здоровья, идеализировал патриархальный быт Пошехонья… но тут же, конечно, спохватывался и принимался ненавидеть. Так ненавидел – инда припадки нервные с ним случались; оттого он и умер в не патриаршеских еще годах, что раздражение его противу всего на свете как-то само собой перешло в хроническое раздражение всех нервов, малейший звук причинял ему физические страдания… Незадолго до смерти он еще имел несчастье принять у себя депутацию от петербургских студентов, в которую входил и старший брат Ильича – угрюмый, фанатичный юноша, который долго тряс старику руку и этим немало его испугал. Евгений Евтушенко оставил о сем случае патетическое стихотворение: «Не жмите так руку, мне больно, я старенький,- смеется Щедрин, но ему не смешно». Да уж чего смешного…
Поразительно, как никому еще не пришла в голову очевидная мысль: колумбиец Маркес наверняка читал «Историю одного города» и именно с нее слизал «Сто лет одиночества» – совпадения разительные. Впрочем, даже если он и сам дошел до этой идеи сто лет спустя – несомненный приоритет в области лаконичного, предельно сгущенного национального эпоса с эротическим, мистическим и фольклорным колоритом должен принадлежать русской литературе, и прежде всего Щедрину. Немудрено, что «Историю» при ее появлении почти никто не понял, а последующие поколения продолжали числить по разряду пародии. Впрочем, на родине Маркеса, где отлично понимают все подтексты, «Сто лет одиночества» тоже считают сочинением сатирическим; щедринский двухсотстраничный эпос, разумеется, к социальной сатире несводим. Вообще не в ней дело. Получилась грандиозная эпопея русской жизни, куда плотно утрамбованы все национальные архетипы – призвание варягов, бунт, голод, пожар, реформы, реакция. Напрасно километры бумаги исписывались комментариями с буквальной расшифровкой тех или иных щедринских аллегорий, да и то перед иными главами – вроде «Голодного города» – самые упертые советские толкователи останавливались в смущении: ну нету тут прямой аналогии, хоть обчитайся. Мудрено ли, что сумасшедший юноша Писарев откликнулся на эту таинственную фантасмагорию статьею «Цветы невинного юмора»? Он именно лобовых аллюзий там и не нашел – а без практического смысла что ж это за сатира? Ему невдомек было, что Щедрин не басню писал, а народный эпос; но к Писареву и щедринско-радикальной полемике мы еще вернемся.
«История одного города» – произведение не только и не столько сатирическое. Это гомеровская по замаху фантазия на темы всей русской истории и национальной мифологии, и смешного тут мало. «Человек приходит к собственному жилищу, видя, что оно насквозь засветилось, что из всех пазов выпалзывают тоненькие огненные змейки, и начинает сознавать, что это-то и есть тот самый конец всего, о котором ему когда-то смутно грезилось и ожидание которого, незаметно для него самого, проходит через всю его жизнь. Что остается тут делать? что можно еще предпринять? Можно только сказать себе, что прошлое кончилось и что предстоит начать нечто новое, нечто такое, от чего охотно бы оборонился, но чего невозможно избыть, потому что оно придет само собою и назовется завтрашним днем». Эта мрачная сентенция, откуда ни возьмись разверзшаяся посреди описания глуповского пожара и мигом раздувающая этот пожар до метафоры всей русской жизни, пронизанной эсхатологическими ожиданиями, недвусмысленно указывает на жанр щедринской фантасмагории: перед нами национальный апокалипсис, пророчество о конце всего, и конец этот наступает-таки как неизбежная расплата за все сразу. У Маркеса налетает вихрь, когда герой дочитывает пергаменты Мелькиадеса; у Щедрина идет таинственное «Оно» (так и назвал Овчаров свою замечательную, но плоскую экранизацию) – дождь с ураганом, от которого сами собой начинают звонить колокола. «История прекратила течение свое. Ибо рода, осужденные на сто лет одиночества, вторично не появляются на земле» – эти две финальные фразы складываются в одну, объясняющую все; только Щедрин вместо «одиночества» сказал бы «невменяемость». «В истории действительно случаются по местам словно провалы, перед которыми мысль человеческая останавливается не без недоумения. Поток жизни как бы прекращает свое естественное течение и образует водоворот, который кружится на одном месте, брызжет и покрывается мутною накипью… это и называется отсрочкой общественного развития»; эта более чем откровенная цитата все из той же «Истории» поставила диагноз и Глупову, и Макондо. В этот исторический провал длиною в несколько веков все и провалилось; Маркес и Щедрин спрессовали их до ста. Война, в которой, идя на внешнего врага, становятся жертвою внезапной тьмы среди бела дня и бьют друг друга; сожительство градоначальника с чужой женой, от чего, по общему мнению, проистекает засуха; деградация не только добродетелей, но и пороков, вследствие чего милое, слегка обаятельное головотяпство ранних глуповцев переходит в агрессивный идиотизм Угрюм-Бурчеева – вот сквозные сюжеты русской истории, которые вычленил Щедрин. Однако сочинение его дышит отнюдь не страстной ненавистью и тем более не презрением: это все равно что сказать, будто Маркес презирает свой поселок Макондо или Искандер – свой Чегем. Это не обличение, а сага, пронизанная, страшно сказать, преклонением! Густо замешенное, пахучее, непрерывно поднимающееся тесто эпоса; тут и кровь, и почва, и слезы, и порох, и сперма, и желчь, и зола,- и все это вместе есть до крайности спрессованная история; только потрясающее чувство Родины и самая истовая любовь к ней способны породить такое сочинение. Страшно сказать, Щедрин обожает город Глупов! И как бы он ни ненавидел глуповскую инертность, пошлость и чушь – но живут в этом городе пророки-юродивые, которых народ обожает и суеверно слушается, живут свои правдолюбцы и художники, а главное – именно пресловутая глуповская вязкость погубила утопию Угрюм-Бурчеева и не дала ей осуществиться. Утопия эта – в которой толпы днем маршируют на строительные работы, а на ночь получают кусок черного хлеба с солью,- с пугающей точностью осуществилась шестьдесят лет спустя после написания «Истории», однако в русском желудке и она перепрела, вслед за чем наступили окончательная деградация и прекращение истории.