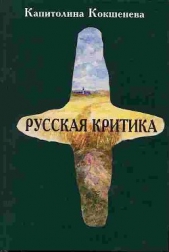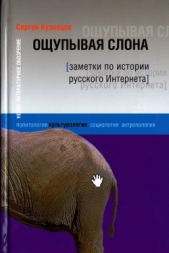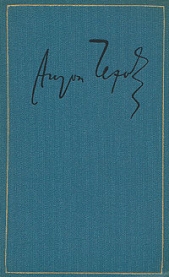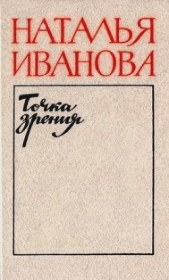Вместо жизни

Вместо жизни читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Больше того – в «Истории одного города» уловлен, пожалуй, главный вектор российской истории, а именно – закон самосохранения города Глупова вопреки любым усилиям градоначальников. Город Глупов возможен лишь как щелястая империя, в складках которой могут укрыться пророк, художник или юродивый; в таком виде город без устали воспроизводит себя, причем градоначальник может стать лишь катализатором этого процесса – изменить же самый процесс он не властен. Империя, само собой, деградирует – ибо, чтобы удерживаться в целостности, ей надо все больше глупеть и опрощаться; начинается она с Грустилозых или Беневоленских, а кончается Угрюм-Бурчеевыми, после чего вовсе трескается по швам. Насаждение просвещения оборачивается кровопролитием; упразднение просвещения оборачивается кровопролитием же. С годами становится ясно, что дело не в просвещении – оно все равно не приживается,- а в необходимости периодических кровопролитий, после которых больной, как после кровопускания, может некоторое время дышать спокойнее. Но где нет поступательного развития, а есть коловращение, историческая воронка, сто лет одиночества,- там история рано или поздно прекращает течение свое.
Откуда эта воронка и почему вообще она образовалась? Щедрин считал (и постоянно это повторял), что причина национальной невменяемости заключается в отсутствии общественной мысли, которая бы все это как-нибудь назвала наконец своими именами. Главной чертой русской жизни представлялся ему этот самый морок, уход любой дискуссии в песок, тьма среди бела дня, заставляющая нас истреблять своих. Как это мы живем, когда у нас ни один вопрос русской общественной жизни не решен? Об этом, собственно, все «Письма к тетеньке» – к русской, разумеется, интеллигенции, которая слаба на передок, легковерна, слезлива, а все-таки больше во всей стране писать не к кому. Какая может быть литература, что за общественная жизнь, ежели у нас ни одна вещь не названа? Мы ни о чем не договорились, ни в чем не определились, у нас не было и секунды на свободный обмен мнениями – так и прыгаем из тирании государственной в тиранию либеральную, из террора бурчеевского в террор революционный и обратно; само собой, что получается верчение… но вечного верчения не бывает.
Деградация, истощение, распад – действительно его тема, он и здесь был новатор, раньше Томаса Манна написавший «Будденброков». Знаменитый подзаголовок «История гибели одного семейства» легко приложим к главному его роману «Господа Головлевы» – страшной хронике вырождения, одному из лучших русских эпосов. Очерки у Щедрина были длинные, романы – короткие. «Коротко написать большой роман» мечтал и Горький, берясь за «Дело Артамоновых»,- но Салтыков-Щедрин успел раньше и лучше.
Есть тоталитарная маменька, Арина Петровна, и есть три ее порождения: Павел-тихоня, Степка-балбес и Иудушка-кровопивушка. Есть, правда, еще Аннушка, сбежавшая с уланом и оставившая на маменьку двух сироток, Анниньку и Любиньку. Подозреваю, что это символическое семейство куда более точный образ России, нежели пресловутая компания «Карамазов и сыновья». Более безысходной книги и впрямь не найти – маменькин вопль «Для кого я припасала?!» так в ушах и стоит. Богатство есть, как не быть,- да завещать его некому: всякий симпатичный герой непременно спивается, про несимпатичного говорить нечего, такое омерзение нападает на всякого, кто прочтет хоть один Иудушкин монолог; причина же, по Щедрину, довольно проста, и заключается она в полном отсутствии у героев хоть какого-то интереса, кроме материального, в совершенной ограниченности их кругозора и безвыходности существования. Смею сказать, что «Господа Головлевы» – величайшее религиозное сочинение во всей пореформенной русской словесности, поскольку автор его видит выход не в социальных преобразованиях, и не в хозяйствовании, и не в бунте – а в том, чтобы вдруг проснуться. Ведь вся жизнь в «Головлевых» есть сон, это сквозной, лейтмотивный образ романа: морок какой-то опустился на всех. В «черном облаке» проводит дни свои Степка-балбес; грезит наяву Павел Головлев, тихоня, кисель, ни то ни се; сном кажется вся ее жизнь Анниньке – «И прежняя жизнь была сон, и теперешнее пробуждение – тоже сон. Огорчилась девочка, расчувствовалась – вот и всё. Пройдет». Да и сам Порфирий Головлев, страшнейший из щедринских персонажей, опутывающий липкой своей паутиной и маменьку, и читателя, и автора,- живет во сне, просыпаясь единственный раз, в последней главе, и с ужасом спрашивая себя: ГДЕ ВСЁ? Вот это-то щедринское ГДЕ ВСЁ? и есть главный русский вопрос: ведь не сказать, чтобы автор вовсе не любил маменьку Арину Петровну. Напротив, она хоть и хищница, а во всем его сочинении чуть ли не самый здравый человек. Даже не без милосердия – сироток воспитала… и припасла порядочно… Куда же все делось? Отчего распад, запустение, тараканы за обоями и слизь на потолке – постоянная, беспросветная атмосфера всей этой короткой русской эпопеи? Да оттого, что ни один ее герой (кроме, разумеется, маменьки) всего этого богатства не чувствует своим. Между тем стоит единожды открыть глаза, сбросить это наваждение – и появится надежда, и даже какой-то системой ценностей повеет… Щедрин неоднократно обрушивался на лицемерие – страшнейший из всех пороков,- но лицемерием называл он лишь вечную русскую неспособность осмотреться, задуматься и честно во всем признаться. И у всех на лице словно застыло то выражение, с которым умирающая Арина Петровна смотрела в пространство: «словно она старалась что-то понять и не понимала». Вот и Щедрин так смотрит на той фотографии, а вовсе не с гневом и отчаянием… то есть и с гневом, и с отчаянием, но обращены они никак не на русское самодержавие, а все на ту же русскую невменяемость, на сон, туман, морок, окутывающий всех равно.
Надо было обладать воистину бесконечным авторским милосердием, чтобы для Иудушки Головлева, как раз этот морок на всех и наводящего, усмотреть возможность спасения и раскаяния – и когда? на Страстной неделе! Что хотите делайте, а я отнес бы к сильнейшим страницам в мировой литературе финал романа, в котором Иудушка вдруг уходит из дома метельной мартовской ночью и замерзает, не дойдя до погоста. Шел он просить прощения у Арины Петровны, да так и не дошел. Странная эта, такая нещедринская логика подкрепляется, однако, и трогательнейшей из его сказок – «Рождественской». В вере, стойкости и самоотречении, и ни в чем ином, видел этот идеалист единственное спасение; и только круглый идиот принялся бы доказывать, будто Щедрин любит людей труда и спасение тоже видит в труде. Про это в «Головлевых» все сказано еще до Шаламова, назвавшего физический труд проклятием человека: «Ах! великая вещь – жизнь труда! Но с нею сживаются только сильные люди да те, которых осудил на нее какой-то проклятый первородный грех. Только таких он не пугает». И уж вовсе смешно было бы в труде искать ответа на проклятые вопросы: найти в нем можно в лучшем случае забвение, в худшем – отупение, все тот же сон, морок, черное облако, сто лет одиночества.
Для многих, однако, загадка – как Щедрин, написав таких страшных «Головлевых», под старость опубликовал «Пошехонскую старину»? Нет ли здесь противоречия – ведь «Старина» сочинение автобиографическое, почти идиллическое, с уютнейшим бытом и обаятельнейшими типами? Но в том-то, собственно, и дело, что и в «Господах Головлевых» все герои – очень славные люди: и маменька Арина Петровна, и Степка-алкоголик, и Пашка-молчун, и сиротки, пошедшие по рукам, и проигравшийся Петечка… Все они, конечно, порядочные дряни (особенно проигравшийся Петечка), но всех автор любит самым искренним образом, и даже для Иудушки есть шанс в его мире! В том-то и была трагедия Щедрина, что он по-настоящему любил Россию, как любил свой Глупов,- и признание его «Я люблю Россию до боли сердечной», затасканное, затисканное бесчисленными советскими исследователями, было вовсе не пустой патриотической декларацией, каких, что греха таить, хватает в русской литературе. Я даже думаю, что из всех русских классиков Щедрин один мог претендовать на подлинное, некнижное знание России – знание, конечно, отчасти вынужденное, поскольку его еще юношей сослали в Вятку за первые же две повести; за границу он впервые попал, перевалив за полвека. Государственную службу смог оставить только после сорока. На фоне руссоиста Толстого, которого многие современники называли явлением странным, нерусским, неорганичным; на фоне западника Тургенева, бывавшего в России наездами, и Достоевского, имевшего дело в основном с Петербургом да Старой Руссой, если не считать четырех лет общения с каторжниками,- Щедрин и впрямь выглядит самым русским, коренным и природным явлением во всей русской словесности. Запад сильно ему не нравился, славянофильство отвращало еще сильней – отсюда-то в его знаменитом диалоге «Мальчик в штанах и Мальчик без штанов» появляется сравнение: немец черту за грош душу продал, а русский даром отдал. Но хочет он того или нет, а даже и в этом диалоге Мальчик без штанов выходит у него, при всем своем хамстве, неотразимо хорош. Салтыков-Щедрин был искренний, надрывный, едва ли не сусальный патриот, любивший Россию со всеми ее язвами (с язвами-то – прежде всего!) и никогда не доходивший до того, чтобы родину, со всеми ее безобразиями, проклясть. То есть, может, и проклинал… но не как чужую. В этом и отличие его от всех так называемых русских сатириков, которых и впоследствии хватало, и при нем расплодилось достаточно. Он никогда не опустился бы до замечания о том, что Родина-мать – это наглая тетка с обкомовской внешностью; слабость России, ее военные и политические проигрыши повергали его в отчаяние. Ненавидя журнальную лямку (тянул «Отечественные записки», пока не закрыли), он без этой лямки немедленно впадал в ипохондрию. И все его страдания (равно как и все качество его действительно могучей прозы) происходили от того, что он был здесь не чужой; здесь же лежал и водораздел между ним и радикалами.