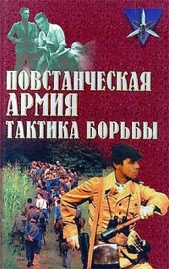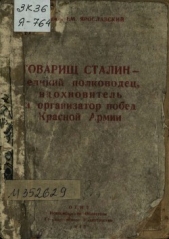Сталин и писатели Книга четвертая
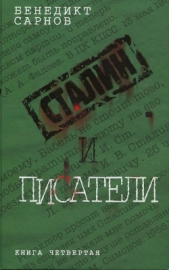
Сталин и писатели Книга четвертая читать книгу онлайн
Четвертый том книги Бенедикта Сарнова «Сталин и писатели» по замыслу автора должен стать завершающим. Он состоит из четырех глав: «Сталин и Бабель», «Сталин и Фадеев», «Сталин и Эрдман» и «Сталин и Симонов».
Два героя этой книги, уже не раз появлявшиеся на ее страницах, — Фадеев и Симонов, — в отличие от всех других ее персонажей, были сталинскими любимцами. В этом томе им посвящены две большие главы, в которых подробно рассказывается о том, чем обернулась для каждого из них эта сталинская любовь.
Завершает том короткое авторское послесловие, подводящее итог всей книге, всем ее четырем томам,
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
На самом же деле — теперь это не так уж трудно увидеть — Зощенко не бьет, не уничтожает и даже не унижает своего героя-обывателя (тот и без того, самим своим положением в мире достаточно унижен). Он входит в его положение. И искренне ему сочувствует:
► В 1921 году, в декабре месяце приехал из армии в родной свой городок Иван Федорович Головкин.
А тут как раз нэп начался. Оживление. Булки стали выпекать. Торговлишка завязалась. Жизнь, одним словом, ключом забила.
А наш приятель Головкин, несмотря на это, ходит по городу безуспешно. Помещения не имеет. И спит по субботам у знакомых. На собачьей подстилке. В передней комнате.
Ну и, конечно, через это настроен скептически.
— Нэп, — говорит, — это форменная утопия. Полгода, — говорит, — не могу помещения отыскать.
В 1923 году Головкин все-таки словчился и нашел помещение. Или он въездные заплатил, или вообще фортуна к нему обернулась, но только нашел.
Комната миленькая. Два окна. Пол, конечно. Потолок. Это все есть. Ничего против не скажешь.
А очень любовно устроился там Головкин. На шпалеры разорился — оклеил. Гвозди куда надо приколотил, чтоб уютней выглядело. И живет, как падишах.
Недолго, однако, пришлось Ивану Федоровичу Головкину наслаждаться этой своей жизнью падишаха:
► Только вдруг в квартире ропот происходит. Дамы мечутся. Кастрюльки чистят. Углы подметают...
Комиссия приходит из пяти человек. Помещение осматривает.
Увидела комиссия разную домашнюю требуху в квартире — кастрюли и пиджаки — и горько так вздохнула.
— Тут, — говорит, — когда-то Александр Сергеевич Пушкин жил. А тут наряду с этим форменное безобразие наблюдается. Вон метла стоит. Вон брюки висят — подтяжки по стене развеваются. Ведь это же прямо оскорбительно для памяти гения!
Ну, одним словом, через три недели выселили всех жильцов из этого помещения.
Головкин, это верно, очень ругался. Крыл. Выражал свое особое мнение открыто, не боясь никаких последствий.
— Что ж, говорит, это такое? Ну пущай он гений. Ну пущай стишки сочинил- «Птичка прыгает на ветке». Но зачем же средних людей выселять? Это же утопия, если всех жильцов выселять.
Может показаться, что слово «утопия» тут возникло как некая краска знаменитого зощенковского «жаргона». Что оно, как это обычно бывает у Зощенко, явилось тут как следствие непонимания Иваном Федоровичем Головкиным смысла некоторых произносимых им слов. Но на самом деле слово это тут как нельзя более уместно. Недаром одно серьезное социологическое исследование о природе советского режима так прямо и называлось: «Утопия у власти».
Так ли, сяк ли, но суть дела в том, что таких безобидных, ни в чем не провинившихся Иванов Федоровичей Головкиных повсеместно выселяли и в конце концов выселили. Не только из квартиры — из жизни. Об этом и вопил своими рассказами и повестями Михаил Зощенко. Да, дескать, я понимаю, совершается великое историческое действие. Но зачем «средних людей выселять»? Всем сердцем, всей душой был он на стороне этих «средних людей».
Об этом же вопит и Эрдман устами своего Подсекальникова.
Более чем внятно, яснее ясного сказал он своим «Самоубийцей», что так называемая революция (надо бы сказать — власть, прикрывающаяся этим словом) угнетает, давит, мордует не только торговлю, интеллигенцию, религию, но и вот этого самого «среднего человека», который вовсе даже и не думает с этой властью враждовать, а хочет только одного: чтобы ему позволили жить. Но — нет! Не дают! Не позволяют!
Подсекальников, в начале пьесы заявленный как фигура комическая, к финалу ее достигает высот подлинной трагедии, не то что близкой, а по сути даже тождественной той, которую век назад обнажили Гоголь своей «Шинелью» и Пушкин своим «Медным всадником».
Этим душераздирающим монологом Подсекальникова пьеса, в сущности, завершается. Но это — не самый ее финал.
Начавшаяся как фарс, заключается она выплеском уже не мнимой, только лишь называемой, а реальной, на деле совершившейся трагедии:
► ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ
Вбегает Виктор Викторович.
В и к т о р В и к т о р о в и ч.Федя Петунии застрелился. (Пауза.) И оставил записку.
А р и с т а р х Д о м и н и к о в и ч. Какую записку?
В и к т о р В и к т о р о в и ч. «Подсекальников прав. Действительно жить не стоит».
Траурный марш.
Занавес.
Сталин, конечно, ничего этого в эрдмановском «Самоубийце» не прочел. (Если бы прочел, не сказал бы, что Эрдман «мелко берет, поверхностно берет».) Но при всем при этом у него к этой эрдмановской пьесе был дополнительный, свой, личный, особый счет.
Письмо Сталина Станиславскому начиналось так:
► Я не очень высокого мнения о пьесе «Самоубийство».
На самом деле, как мы знаем, пьеса, о которой шла речь, называлась не «Самоубийство», а — «Самоубийца».
Что же это? Небрежность? Ошибка памяти? Результат невнимательного прочтения пьесы? Может быть, лучший друг писателей ее даже и не прочел, а так, проглядел, потому и названия ее толком не запомнил?
Нет, я думаю, что в этой ошибке Сталина выразилось его понимание пьесы Эрдмана, его трактовка ее. И нельзя сказать, чтобы эта трактовка была совсем далека от того смысла, который хотел вложить в эту свою пьесу (или так уж у него получилось) сам автор.
Особый интерес тут представляет отзыв Реперткома, на который в своем письме Станиславскому ссылается Сталин
► ИЗ ПРЕДСТАВЛЕННОГО СТАЛИНУ
ОТЗЫВА ГЛАВРЕПЕРТКОМА
ГАНДУРИНА О ПЬЕСЕ
ЭРДМАНА «САМОУБИЙЦА».
5 ноября 1931 г.
Главное действующее лицо пьесы Эрдмана «Самоубийца» — Федя Петунии.
О нем говорят в течение всей пьесы, но он ни разу на сцену не появляется.
Петунии, единственный положительный персонаж пьесы (писатель, прозрачный намек на Маяковского), кончает самоубийством и оставляет записку: «Подсекальников прав, жить не стоит».
В развитие и доказательство смысла этого финала, по сути дела, и построена вся пьеса.
С Маяковским у председателя Главреперткома Гандурина были свои счеты. Незадолго до смерти Владимир Владимирович обидел его такой эпиграммой:
Но, объясняя, в чем состоит вредность пьесы Н. Эрдмана «Самоубийца», председатель Главреперткома упомянул в своем отзыве о ней Маяковского не для того, чтобы отплатить уже мертвому Маяковскому за эту прошлогоднюю свою обиду. Для ссылки на самоубийство Маяковского у него тут были другие, более серьезные основания, хотя, — если говорить о фактической стороне дела, — самоубийство Феди Петунина у Эрдмана отнюдь не являло собой «прозрачный намек» на самоубийство Маяковского и ни в коем случае не могло быть таким намеком:
► Летом я встретил его (Маяковского. — Б.С.) в Ялте, он выступал на курортном побережье с чтением стихов. Было не особенно жарко, мы гуляли по набережной, он был в каком-то приподнятом ритме, тут же предложил играть в рулетку (игрушечную крохотную рулетку он носил с собой)... <...> Обедали мы на поплавке... <...> Он то и дело поглядывал на часы, предупредив, что в четыре часа ему нужно звонить в Хосту — там тем летом отдыхала Полонская, быстро поднялся, обещав приехать ко мне в Гурзуф, где отдыхал я и где был назначен очередной вечер его стихов.
Он приехал на другой день вместе с Н. Эрдманом. Редко видел я его таким беззаботным и шаловливым. Они с Эрдманом (которого Маяковский очень уважал и любил) изощрялись в остроумии, дурачились, сигая с камня на камень и состязаясь в длине прыжка (можно ли было здесь превзойти Маяковского?), запускали плоские камешки в море...
Вечер собрал разношерстную публику, которую Маяковский оглядел ироническим взглядом (накануне он рассказывал, какое удовольствие получил от выступления в крестьянском санатории «Ливадия»), добавил, что стихи будет читать по заказу Эрдмана и Маркова, дразня нас и привлекая к нам внимание, как к каким-то невиданно почетным гостям...
На другой день мы встретились у Эрдмана в Ялте в номере гостиницы — Маяковский уезжал... Я почему-то запомнил его у Эрдмана — не то накануне, не то в день отъезда: просторный номер был ярко освещен, Маяковский сидел на фоне широко распахнутой двери — безоблачного неба и сверкающего моря, опираясь на палку и положив голову на руки. Когда он ушел, Эрдман вздохнул: «Вот и уехал Маяковский!»...
...Труппа МХАТа гастролировала в Ленинграде. Приблизительно через месяц после премьеры «Бани» мы собрались в номере гостиницы слушать новую комедию Н. Эрдмана. «Знаешь, в этом номере последний раз останавливался Маяковский», — сказал Николай Робертович. Потом прочел название своей комедии: «Самоубийца».
На другой день, уже в Москве, на вокзале мы услышали огорошивающее известие: «Только что покончил с собой Маяковский».