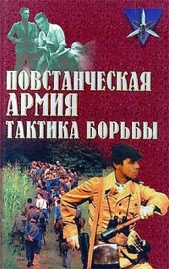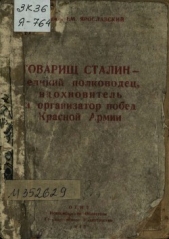Сталин и писатели Книга четвертая
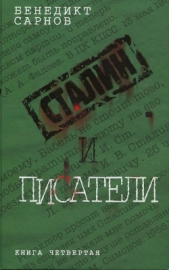
Сталин и писатели Книга четвертая читать книгу онлайн
Четвертый том книги Бенедикта Сарнова «Сталин и писатели» по замыслу автора должен стать завершающим. Он состоит из четырех глав: «Сталин и Бабель», «Сталин и Фадеев», «Сталин и Эрдман» и «Сталин и Симонов».
Два героя этой книги, уже не раз появлявшиеся на ее страницах, — Фадеев и Симонов, — в отличие от всех других ее персонажей, были сталинскими любимцами. В этом томе им посвящены две большие главы, в которых подробно рассказывается о том, чем обернулась для каждого из них эта сталинская любовь.
Завершает том короткое авторское послесловие, подводящее итог всей книге, всем ее четырем томам,
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
► Вы придаете разрешению т. Сталина свое толкование. Я и мои товарищи против «Самоубийцы».
Но это и в самом деле не очень расходится с позицией Сталина, прямо высказанной им в том же его письме Станиславскому:
► Я не очень высокого мнения о пьесе... Ближайшие мои товарищи считают, что она пустовата и даже вредна.
Тем не менее, он все-таки — на этом этапе — ее не запретил. Согласился «дать театру сделать опыт и показать свое мастерство».
Тут сразу возникает самое простое объяснение этого, обычно совсем не свойственного ему добродушия: не хотелось обижать Станиславского. Зная Сталина, можно увидеть тут и известную долю лицемерия: пусть, мол, артисты потешатся, а запретить всегда успеем.
Оба эти мотива тут, наверное, тоже присутствовали.
Но есть одно свидетельство, позволяющее не без некоторых оснований предположить, что в этом случае Сталин был искренен.
Напомню уже приводившийся мною однажды (в главе «Сталин и Булгаков») рассказ Александра Николаевича Тихонова, записанный Еленой Сергеевной Булгаковой:
► Он раз поехал с Горьким (он при нем состоял) к Сталину хлопотать за эрдмановского «Самоубийцу». Сталин сказал Горькому
— Да что! Я ничего против не имею. Вот — Станиславский тут пишет, что пьеса нравится театру. Пожалуйста, пусть ставят, если хотят. Мне лично пьеса не нравится. Эрдман мелко берет, поверхностно берет. Вот Булгаков! Тот здорово берет! Против шерсти берет! (Он рукой показал — и интонационно.) Это мне нравится!
Тихонов мне это рассказывал в Ташкенте в 1942 году, и в Москве после эвакуации...
На чем основывалось это снисходительное (даже пренебрежительное) отношение Сталина к эрдмановскому «Самоубийце», понять нетрудно.
К героям пьесы Булгакова («Дни Турбиных») он испытывал что-то вроде уважения. Во всяком случае, признавал, что они — люди сильные:
► ...Основное впечатление, остающееся у зрителя от этой пьесы, есть впечатление, благоприятное для большевиков: «если даже такие люди, как Турбины, вынуждены сложить оружие и покориться воле народа, признав свое дело окончательно проигранным, — значит, большевики непобедимы, с ними, большевиками, ничего не поделаешь».
► ...Взять, например, этого самого всем известного Булгакова. Если взять его «Дни Турбиных», чужой он человек, безусловно. Едва ли он советского образа мысли. Однако... я с точки зрения зрителя сужу. Возьмите «Дни Турбиных», — общий осадок впечатления у зрителя остается какой?.. Общий осадок впечатления остается такой, когда зритель уходит из театра, — это впечатление несокрушимой силы большевиков. Даже такие люди крепкие, стойкие, по-своему честные в кавычках, как Турбин и его окружающие, даже такие люди должны были признать в конце концов, что ничего с этими большевиками не поделаешь.
Слабые и даже жалкие персонажи эрдмановского «Самоубийцы» сравнения с Алексеем Турбиным, конечно, не выдерживали. И поэтому истинный, глубинный смысл эрдмановской пьесы до Сталина не дошел. Так же, кстати, как не дошел до него истинный, глубинный смысл до поры не вызывавших у него особого гнева рассказов Зощенко. Этот художественный язык был ему непонятен.
Этот художественный язык оказался непонятен и близким Сталину «товарищам, знающим художественное дело», которым пьеса Эрдмана посылалась на отзыв. И не только глухим к искусству партийным функционерам, которые вообще-то и не обязаны были разбираться в столь тонкой материи, но и кое-кому из «свободных художников», на понимание которых, казалось, мы могли бы рассчитывать:
► ОТЗЫВ В.В. ИВАНОВА В РЕДАКЦИЮ «ГОДА ШЕСТНАДЦАТОГО» НА ПЬЕСУ «САМОУБИЙЦА»
1932 г.
Пьеса Н. Эрдмана «Самоубийца» очень хлесткий, хотя и устаревший фельетон.
Так как сценическая часть оной пьесы нас мало интересует, а больше литературная, то в пьесе несомненно, с одной стороны, огромное влияние стиля Сухово-Кобылина, с другой же — жаргонной прозы, к которой примыкает Зощенко.
Пьеса, по-моему, среднего качества, но т.к. вокруг нее создалась легенда и очень много людей искусства считает, что непоявление ее на сцене или в печати есть факт затирания гения, то я полагаю, оную пьесу стоит напечатать с тем, чтобы разоблачить мифическую гениальность.
Выпады вроде реплик писателя и т.п. стоит вычистить, ибо они представляют малую художественную ценность и вряд ли ее улучшат, хотя именно эти-то выпады и придают известный «перец» пьесе, без них она вряд ли представляла бы какой-либо интерес.
Вс. Иванов
Автор этого отзыва, писатель крупного и яркого дарования, любимец Горького, по праву считается не только одним из основоположников советской литературы, но и зачинателем советской драматургии. Его драма «Бронепоезд 14-69», созданная им на основе собственной повести того же названия, была поставлена Станиславским к десятилетию Октябрьской революции и стала первой советской пьесой, идущей на сцене МХАТа. Не исключаю, что на его отношение к эрдмановскому «Самоубийце» наложила свою печать и некоторая профессиональная ревность к новой звезде, появившейся на тогдашнем театральном небосклоне. Но главным тут было все-таки не это, а влияние отзыва Сталина, который наверняка был ему известен: уж больно крепко «рифмуется» этот его отзыв со сталинским. «Рифмуется» не так даже смыслом и общей оценкой, как пренебрежительно снисходительным тоном этого его отзыва.
Альманах «Год шестнадцатый» был затеян Горьким. «Шестнадцатый», потому что первый выпуск этого альманаха был приурочен к шестнадцатой годовщине Октября. (На следующий год вышел «Год семнадцатый», потом «Год восемнадцатый» — и так далее.)
Горький, как видно, хотел, чтобы в этот первый выпуск затевавшегося им альманаха вошел и эрдмановский «Самоубийца». Но настоять на этом ему не удалось, и вместо «Самоубийцы» в альманахе оказались другие, не столь значительные эрдмановские сочинения. О том, что из этого вышло, — речь впереди. А сейчас вернемся к «Самоубийце».
Вс. Иванов, отзыв которого об этой пьесе мы сейчас прочли, полагал, что вся ее «вредность» заключается в ядовитых «антисоветских» (тогда чаще говорили — «контрреволюционных») выпадах. То есть — в отдельных репликах, репризах, которые ничего не стоит «вычистить», тем более что никакой художественной ценности они не представляют.
Он даже прямо говорит, что «вычистить», то есть вычеркнуть, изъять следует, по его мнению, реплики писателя. А поскольку не проходных, значащих реплик у этого персонажа эрдмановской пьесы (его зовут Виктор Викторович) не так уж много (собственно — всего две), угадать, что конкретно он имеет в виду, не так уж трудно.
Первая значащая реплика Виктора Викторовича в пьесе — такая:
► — У нас, у писателей, музыкантская жизнь. Мы сидим в государстве за отдельным столом и все время играем туш. Туш гостям, туш хозяевам. Я хочу быть Толстым, а не барабанщиком.
Следует признать, что роль, отведенная в советском обществе искусству, обозначена этой короткой репликой довольно метко. Можно даже сказать — исчерпывающе.
Но вторая в пьесе значащая реплика того же Виктора Викторовича будет, пожалуй, посерьезнее. Собственно, это даже не реплика, а целый монолог:
► В и к т о р В и к т о р о в и ч. Я не мыслю себя без советской республики. Я почти что согласен со всем, что в ней делается. Я хочу только маленькую добавочку. Я хочу, чтоб в дохе, да в степи, да на розвальнях, да под звон колокольный у светлой заутрени, заломив на затылок седого бобра, весь в цыганах, обнявшись с любимой собакой, мерить версты своей обездоленной родины. Я хочу, чтобы лопались струны гитар, чтобы плакал ямщик в домотканую варежку, чтобы выбросить шапку, упасть на сугроб и молиться и клясть, сквернословить и каяться, а потом опрокинуть холодную стопочку да присвистнуть, да ухнуть на всю вселенную и лететь... да по-нашему, да по-русскому, чтоб душа вырывалась к чертовой матери, чтоб вертелась земля, как волчок, под полозьями, чтобы лошади птицей над полем распластывались. Эх вы, лошади, лошади, — что за лошади! И вот тройка не тройка уже, а Русь, и несется она, вдохновенная Богом. Русь, куда же несешься ты? Дай ответ.