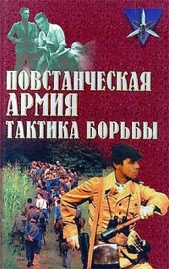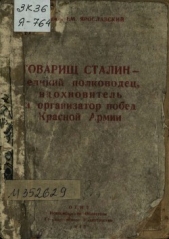Сталин и писатели Книга четвертая
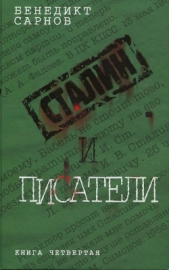
Сталин и писатели Книга четвертая читать книгу онлайн
Четвертый том книги Бенедикта Сарнова «Сталин и писатели» по замыслу автора должен стать завершающим. Он состоит из четырех глав: «Сталин и Бабель», «Сталин и Фадеев», «Сталин и Эрдман» и «Сталин и Симонов».
Два героя этой книги, уже не раз появлявшиеся на ее страницах, — Фадеев и Симонов, — в отличие от всех других ее персонажей, были сталинскими любимцами. В этом томе им посвящены две большие главы, в которых подробно рассказывается о том, чем обернулась для каждого из них эта сталинская любовь.
Завершает том короткое авторское послесловие, подводящее итог всей книге, всем ее четырем томам,
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Можно, конечно, вычеркнуть и этот монолог, являющий удивительный сплав иронии и лирики, пародии и трагического пафоса. Можно. Но — жалко. Сразу вспоминается реплика, которую молва в свое время приписывала Эренбургу. Когда он выразил свое возмущение по поводу редакторского вмешательства в некий чуть ли даже не классический текст (говорили, что Хемингуэя), смущенный редактор, оправдываясь, будто бы сказал: «Илья Григорьевич! Но ведь мы тут только в одном месте вырезали совсем немножечко». На что Эренбург будто бы ответил: «А вы разве не знаете, что если у мужчины только в одном месте вырезать совсем немножечко, он перестает быть мужчиной».
Тоже, конечно, жалко, но, пожалуй, без особого ущерба для пьесы можно было бы «вычистить» из нее и такую — явно издевательскую — репризу:
► Е г о р у ш к а. Я на нее, Серафима Ильинична, с марксистской точки зрения смотрел...
С е р а ф и м а И л ь и н и ч н а. Что ж, по-вашему, с этой точки по-другому видать, что ли?
Е г о р у ш к а. Не только что по-другому, а вовсе наоборот. Я на себе сколько раз проверял. Идешь это, знаете, по бульвару, и идет вам навстречу дамочкаю Ну, конечно, у дамочки всякие формы и всякие линии. И такая исходит от нее нестерпимая для глаз красота, что только зажмуришься и задышишь. Но сейчас же себя оборвешь и подумаешь: а взгляну-ка я на нее, Серафима Ильинична, с марксистской точки зрения — и... взглянешь. И что же вы думаете, Серафима Ильинична? Все с нее как рукой снимает, такая из женщины получается гадость, я вам передать не могу. Я на свете теперь ничему не завидую. Я на все с этой точки могу посмотреть.
Или еще вот такой и в самом деле довольно-таки бесцеремонный авторский выпад:
► А р и с т а р х Д о м и н и к о в и ч. Любимый Семен Семенович! Вы избрали прекрасный и правильный путь... Много буйных, горячих и юных голов повернутся в открытую вами сторону, и тогда зарыдают над ними отцы, и тогда закричат над могилами матери, и тогда содрогнется великая родина, и раскроются настежь ворота Кремля, и к ним выйдет наше правительство. И правитель протянет свою руку купцу, и купец свою руку протянет рабочему, и протянет рабочий свою руку заводчику, и заводчик протянет свою руку крестьянину, и крестьянин протянет свою руку помещику, и помещик протянет свою руку к своему поместью...
П у г а ч е в. Я почти что не критик, Аристарх Доминикович, я мясник. Но я должен отметить, Аристарх Доминикович, что вы чудно изволили говорить. Я считаю, что будет прекрасно, Аристарх Доминикович, если наше правительство протянет руки.
А р и с т а р х Д о м и н и к о в и ч. Я считаю, что будет еще прекраснее, если наше правительство протянет ноги.
Все это — и многое другое такое же — из этой эрдмановской пьесы действительно можно было бы «вычистить». И кое-что так даже и без особого для нее ущерба.
Но невозможно было вычеркнуть, «вычистить» из нее — ее гениальность.
Замечательна была сама ее драматургическая основа, ее, так сказать, сюжетный «скелет».
Человек по каким-то там своим, сугубо личным, можно даже сказать пустяковым причинам объявляет, что готов застрелиться. Слух об этом разносится по городу, и к нему являются представители самых разных социальных групп и слоев общества, ущемленных советской властью. Один из них уговаривает его оставить записку, что стреляется он в знак протеста против преследования религии. Другой, — что к мысли о самоубийстве его привели горести и беды, выпавшие на долю русской интеллигенции. Третий, — что он кончает с собой из-за того бедственного состояния, в котором ныне пребывает искусство. Четвертый, — что он решил умереть, защищая свободу торговли. Являются и женщины, и каждая требует, чтобы он объявил, что кончает с собой из-за нее. Возникает ряд острых комедийных — и не только комедийных — положений.
Но все это — только предпосылка, только возможность для создания на этой основе гениальной пьесы. А гениально тут дуновение истинной трагедии, которым Эрдман пронизал этот свой фарсовый, чуть ли даже не водевильный сюжет.
► Кто отдавал себе отчет в том, что добровольный отказ от гуманизма — ради какой бы то ни было цели — к добру не приведет?.. Об этом помнила только кучка интеллигентов, но их никто не слушал... В двадцатые годы над ними потешался каждый, кому не лень... Их называли «хилыми интеллигентишками» и рисовали на них карикатуры. К ним применялся еще и другой эпитет: «мягкотелые»... Первоочередная задача состояла в том, чтобы подвергнуть их осмеянию в литературе. За эту задачу взялись Ильф с Петровым и поселили «мягкотелых» в «Вороньей слободке». Время стерло специфику этих литературных персонажей, и никому сейчас не придет в голову, что унылый идиот, который пристает к бросившей его жене, должен был типизировать основные черты интеллигента. Читатель шестидесятых годов, читая бессмертное произведение двух молодых дикарей, совершенно не сознает, куда направлена их сатира и над кем они издеваются. Нечто вроде этого случилось и с гораздо более глубокой вещью — эрдмановским «Самоубийцей», которым восхищался Горький и пытался поставить Мейерхольд...
Надежда Яковлевна Мандельштам — дама суровая.
Ильф и Петров у нее — «два молодых дикаря».
В том же духе она высказывается обо всех литературных современниках своего гениального мирка, даже тех, кого сама относит к числу самых ярких и значительных из них:
► Шкловский, Тынянов, Эйхенбаум, Гуковский, цвет литературоведенья двадцатых годов, — о чем с ними можно было говорить? Они пересказывали то, о чем написали в книгах, и на живую речь не реагировали.
О Тынянове позже — чуть более доброжелательно. Но все в том же снисходительно пренебрежительном тоне:
► Тынянов, заявивший об окончании эпохи поэзии и о приближении торжествующей прозы, совершенно забыл, что проза — это мысль.
► ...Тынянов приспособился хуже других и подвергался непрерывным погромам, пока не стал писать романов, которые пришлись ко двору...
Тот же снисходительно-высокомерный тон сохраняет она, заговорив даже о том, для кого О.Э. Мандельштам требовал памятника в каждом московском дворе:
► Многие не увидели перехода от народной революции, жестокой и дикой, к плановой работе машины. Склонные оправдывать первую фазу перенесли свое отношение на вторую. Таков был и Зощенко, один из прапорщиков революции (по чинам он оказался к 1917 году повыше, но психологически он принадлежал именно к этой категории)... Глазом художника он иногда проникал в суть вещей, но осмыслить их не мог, потому что свято верил в прогресс и все его красивые следствия. На войне его отравили газами, после войны — псевдофилософским варевом, материалистической настойкой для слабых душ. Где-то мерещилась гимназия с либерализмом и вольничаньем, а на нее наслоилось все остальное. Кризис мысли и кризис образования.
Но для Эрдмана и его «Самоубийцы» она нашла другие слова и другую тональность. Совсем было уже изготовившись подверстать его к «двум дикарям», глумившимся над замученными, раздавленными интеллигентами, она вдруг — невольно — сменила не только тон, но и смысл того, о чем собиралась сказать:
► По первоначальному замыслу пьесы, жалкая толпа интеллигентишек, одетых в отвратительные маски, наседает на человека, задумавшего самоубийство. Они пытаются использовать его смерть в своих целях — в виде протеста против трудности их существования, в сущности, безысходности, коренящейся в их неспособности найти свое место в новой жизни. Здоровый инстинкт жизни побеждает, и намеченный в самоубийцы, несмотря на то, что уже устроен в его честь прощальный банкет и произнесены либеральные речи, остается жить, начхав на хор масок, толкающих его на смерть.
Эрдман, настоящий художник, невольно в полифонические сцены с масками обывателей — так любили называть интеллигентов, и «обывательские разговоры» означало слова, выражающие недовольство существующими порядками, — внес настоящие поразительные и трагические ноты. Сейчас, когда всякий знает и не стесняется открыто говорить о том, что жить невозможно, жалобы масок звучат, как хоры замученных теней. Отказ героя от самоубийства тоже переосмыслился: жизнь отвратительна и непереносима, но надо жить, потому что жизнь есть жизнь... Сознательно ли Эрдман дал такое звучание или его цель была попроще? Не знаю. Думаю, что в первоначальный — антиинтеллигентский или антиобывательский — замысел прорвалась тема человечности. Это пьеса о том, почему мы остались жить, хотя все толкало нас на самоубийство.