Публицистика 1918-1953 годов
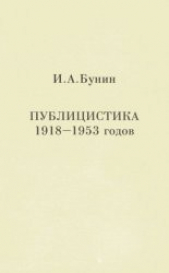
Публицистика 1918-1953 годов читать книгу онлайн
Книга включает в себя все выявленные на сегодняшний день тексты публицистических статей И. А. Бунина за период с 1918 по 1953 год. В большинстве своем публицистика И. А. Бунина за указанный период малоизвестна и в столь полном составе публикуется у нас впервые. Помимо публицистических статей И. Бунина в настоящее издание включены его ответы на анкеты, письма в редакции, интервью, представляющие как общественно-политическую позицию писателя, так и его литературно-критические высказывания.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Я поставил на него ставку тотчас же после его первого появления в «Русском богатстве» и потому с радостью услыхал однажды, гостя у поэта Федорова в Люстдорфе, под Одессой, что к нашим сожителям по даче Карышевым приехал писатель Куприн, и немедля пошел с Федоровым знакомиться с ним. Лил дождь, но все-таки дома мы его не застали, — «он, верно, купается», сказали нам. Мы сбежали к морю и увидали неловко вылезающего из воды, невысокого, слегка полного и розового телом человека лет тридцати, стриженного каштановым ежиком, близоруко разглядывающего нас узкими глазами. — «Куприн?» — «Да, а вы?». — Мы назвали себя, и он сразу просиял дружеской улыбкой, энергично пожал наши руки своей небольшой и сильной рукой (про которую Чехов сказал мне однажды: «Даже в его руке — талант!»). После знакомства мы сошлись с ним удивительно быстро, — в нем тогда веселости и добродушия было особенно много, откровенным он казался необыкновенно, на всякий вопрос о нем, — кроме того, что касалось его семьи, его детства, — отвечал с редкой поспешностью и готовностью своей армейской отрывистой скороговоркой: «Откуда я сейчас? Из Киева. Служил в полку возле австрийской границы, потом полк бросил, хотя звание офицера считаю самым высоким… Жил и охотился в Полесье, — никто даже себе и представить не может, что такое охота на глухарей перед рассветом! Потом жил в Киеве… Там за гроши писал всякие гнусности для бульварной газетки, ютился в трущобах среди самой последней сволочи… Что я пишу сейчас? Ровно ничего, — ничего не могу придумать, а положение ужасное — посмотрите, например: так разбились ботинки, что в Одессу не в чем поехать… Слава Богу, что милые Карышевы приютили, а то бы хоть красть…». И, пробормотав все это, без передышки начинал петь приятным, верным баритоном, с героической торжественностью, эпиталаму Рубинштейна: «Эрос, Бог любви, пусть вас соединяет!».
В это чудесное лето, в южные теплые звездные ночи мы с ним без конца скитались и сидели на обрывах над бледным летаргическим морем, и я все приставал к нему, чтобы он что-нибудь написал, хотя бы просто для заработка. — «Да меня же никуда не примут», жалостливо скулил он в ответ. — «Но ведь вы уже печатались!». — «Да, а теперь, чувствую, напишу такую ерунду, что не примут». — «Я хорошо знаком с Давыдовой, издательницей „Мира Божьего“, — ручаюсь, что там примут». — «Очень благодарю, но что ж я напишу? Ничего не могу придумать!». — «Вы знаете, например, солдат, — напишите что-нибудь о них. Например, как какой-нибудь молодой солдат ходит на часах и томится, скучает, вспоминает деревню…». — «Но я же не знаю деревни!». — «Пустяки, я знаю, давайте придумывать вместе…». — Так и написал он свою «Ночную смену», которую мы послали в «Мир Божий», потом еще какой-то рассказик, который я немедленно отвез в Одессу, в «Одесские новости», — сам он почему-то «ужасно боялся», — и за который мне удалось тут же схватить для него 25 рублей авансом. Он ждал меня на улице и, когда я выскочил к нему из редакции с двадцатипятирублевкой, глазам своим не поверил от счастья, потом побежал покупать себе ботинки, потом на лихаче помчал меня в «Аркадию» угощать жареной скумбрией и белым бессарабским вином… Сколько раз, сколько лет и какой бешеной скороговоркой кричал он во хмелю впоследствии:
— Никогда не прощу тебе, как ты смел мне благодетельствовать, обувать меня, нищего, босого!
Странно вообще шла наша дружба в течение целых десятилетий: то был он со мной весел, нежен, любовно называл Ричардом, Альбертом, Васей, то вдруг озлоблялся, даже трезвый: «Ненавижу, как ты пишешь, у меня от тебя в глазах рябит, одно ценю: ты пишешь отличным языком, а кроме того — чудесно верхом ездишь. Помнишь, как мы закатывались в Крыму в горы?». Про хмельного я уже и не говорю: во хмелю, в который он впадал, несмотря на все свое удивительное здоровье, от одной рюмки водки, он лез на ссоры чуть не со всяким, кто попадался ему под руку. Дикая горячность его натуры была вообще совершенно поразительна, равно как и переменчивость настроений. Чем больше я узнавал его, тем все больше думал, что нет никакой надежды на его мало-мальски правильную, обыденную жизнь, на планомерную литературную работу: мотал он свое здоровье, свои силы и способности с расточительностью невероятной, жил, где попало и как попало с бесшабашностью человека, которому всякое море по колено…
Первые годы нашего знакомства чаще всего мы встречались в Одессе или в Ялте, и тут я видел, как он опускается все больше и больше, дни проводит то в порту, то в самых низких кабачках и пивных, ночует в самых страшных номерах, ничего не читает и никем не интересуется, кроме портовых рыбаков, цирковых борцов и клоунов… В эту пору он особенно часто говорил, что писателем он стал совершенно случайно, хотя с великой страстью, даже сладострастностью предавался при встречах со мной смакованию всяких острых художественных наблюдений, и очень часто проявлял какие-то едкие душевные склонности, охоту, например, к издевательству над людьми:
«Взять какого-нибудь болвана, часто говорил он с упоением, взять какую-нибудь самолюбивую бездарность и одурачить ее самыми бесстыдными похвалами и вообще всячески „развертеть“ ее, — да что же может быть слаще этого?».
Потом в жизни его вдруг наступил резкий перелом: он попал в Петербург, вошел в близость с литературной средой, неожиданно женился на дочери Давыдовой, в дом которой я ввел его, стал хозяином «Мира Божьего», потому что Давыдова умерла через несколько дней после того, как он совершенно внезапно сделал предложение ее дочери, жить стал в достатке, с замашками барина, все больше делаясь своим человеком и в высших литературных кругах, главное же, стал много писать и с каждой своей новой вещью завоевывать себе все больший успех, делаться знаменитостью… Остальное всем известно.
Семнадцать лет тому назад, когда мы жили с ним и его второй женой уже в Париже, — самыми близкими соседями, в одном и том же доме, — и он пил особенно много, доктор, осмотревший его однажды, твердо сказал нам: «Если он пить не бросит, жить ему осталось не больше шести месяцев». Но он и не подумал бросить пить и держался после того еще лет четырнадцать, «молодцом во всех отношениях», как говорили некоторые. Но всему есть предел, настал конец и редким силам моего друга: года два тому назад, приехав с юга, я как-то встретил его на улице и внутренне ахнул: и следа не осталось от прежнего Куприна! Он шел мелкими, жалкими шажками, плелся, такой худенький, слабенький, что, казалось, первый порыв ветра сдует его с ног, не сразу узнал меня, потом обнял с такой трогательной нежностью, с такой грустной кротостью, что у меня слезы навернулись на глаза. Уже давно слышал я, что говорят про него парижские эмигранты: «Нет человека добрее, ласковее, даже в каком-то смысле блаженнее, чем Куприн!». Теперь я убедился в этом самолично… Как-то я получил от него открытку в две-три строки, — такие крупные, дрожащие каракули с такими нелепыми пропусками букв, точно их выводил ребенок… Все это и было причиной того, что за последние два года я не видал его ни разу, ни разу не навестил его: да простит мне Бог — не в силах был видеть его в таком состоянии.
В прошлый вторник, проснувшись утром под Парижем в поезде, на возвратном пути из Италии и, развернув газету, поданную мне вагонным проводником, я был поражен совершенно неожиданным для меня известием:
«Александр Иванович Куприн возвратился в СССР…».
Никаких «политических» чувств по отношению к его, личному, «возвращению» я, конечно, не испытываю: только большую грусть при мысли, что уже никогда не увижу его больше.
Перед занавесом «художественников» *
Приезд в Париж Московского Художественного театра встречает, конечно, живой отклик в русской колонии в Париже. Можно не сомневаться: русские, как ни бедны они, — в громадном большинстве побывают на спектаклях «художественников».


























