Публицистика 1918-1953 годов
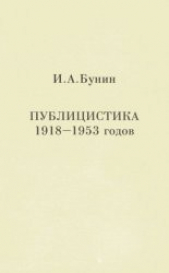
Публицистика 1918-1953 годов читать книгу онлайн
Книга включает в себя все выявленные на сегодняшний день тексты публицистических статей И. А. Бунина за период с 1918 по 1953 год. В большинстве своем публицистика И. А. Бунина за указанный период малоизвестна и в столь полном составе публикуется у нас впервые. Помимо публицистических статей И. Бунина в настоящее издание включены его ответы на анкеты, письма в редакции, интервью, представляющие как общественно-политическую позицию писателя, так и его литературно-критические высказывания.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Как рассказать дальнейшее? Мне казалось, что я в сумасшедшем доме, что это какой-то кошмар. Меня вели долго, через весь город, под проливным дождем. Когда же привели, ровно три часа осматривали каждую малейшую вещицу в моих чемоданах и в моем портфеле с такой жадностью, точно я был пойманный убийца, и все время осыпали меня кричащими вопросами, хотя я уже сто раз заявил, что не говорю и почти ничего не понимаю по-немецки. Каждый мой носовой платок, каждый носок был исследован и на ощупь и даже на свет; каждая бумажка, каждое письмо, каждая визитная карточка, каждая страница моих рукописей и книг, находившихся в моем портфеле, — все вызывало крик:
— Что это такое? Что здесь написано? Кем? И кто тот, кто это писал? Большевик? Большевик?
Некоторые письма и моя записная книжка с адресами были отложены в сторону, куда-то унесены и возвращены мне только в последнюю минуту. Пачка чешских газет, в которых были статьи обо мне и отчеты о моем вечере, вызвала особенную жадность: «а, чешские газеты! Почему они у вас?», хотя в них были мои портреты с подписями: «I.A.Bunin v Praze», «Vortrag Ivan Bunins in Prag», и т. д. Я пишу книгу о Толстом, в моем портфеле было несколько книг о нем: при виде его портретов в этих книгах плевали и топали ногами: «А, Толстой, Толстой!»
К четырем часам явилась какая-то довольно красивая дама с прозрачными, сверлящими и переливающимися глазами, сказала, что она говорит по-французски и потому «случайно» приглашена немцами помочь им в допросе меня, быстро потребовала, чтобы я, не думая ни секунды, написал «вот на этой бумажке» названия моих произведений в доказательство того, что я действительно писатель, быстро сказала, что кому-то известно, что я провел ночь в Линдау с одной женщиной и что я должен назвать имя этой женщины, задала мне еще два-три бесстыдных и нелепых вопроса и вдруг, после моего негодующего восклицания в ответ на все это, заявила, что я свободен.
Приехав ночью в Цюрих, я не спал до утра — меня так простудил раздевавший меня «господин», что у меня уже был кашель и жар: 38,5. Приехав в Женеву, я почувствовал себя совсем больным и, махнув рукой на продолжение своего путешествия, решил возвратиться в Париж.
То, что таможенные и полицейские власти в Линдау не придали никакого значения ни моему возрасту, ни моему званию писателя, Почетного Академика и Нобелевского лауреата, я в какой-то мере понимаю: они не обязаны ни с чем считаться, поймав преступника. Но какие были у них хоть малейшие основания заподозрить, что я преступник, и чуть не целый день так жестоко, грубо и бессмысленно издеваться надо мной?
Примите, господин редактор, уверение в моем совершенном почтении.
Ив. Бунин
Париж, 31-Х-36.
Письмо в редакцию *
Господин редактор!
Позвольте при посредстве Вашей газеты закончить мою историю в Линдау моей глубокой благодарностью всем тем общественным организациям, редакциям газет и частным лицам, которые выразили мне свои чувства в связи с этой историей. Я был в отъезде, и потому только теперь ознакомился полностью со всем тем, что явилось откликом на нее. Отклик этот оказался столь горяч и единодушен в своем сочувствии мне и в возмущении той глупой грубостью, которой я, без малейшего основания, был подвергнут в Линдау, и, смею сказать, столь всемирно широк, что вдвойне обязывает меня обратиться к Вам с этим письмом, ибо касается не только лично меня, как частного человека. Он служит, кроме того, и достойным ответом на германское официальное опровержение по этому случаю: ведь опровержение это, адресованное «некоторым иностранным газетам», будто бы оклеветавшим в своих «заметках» полицейские и таможенные власти в Линдау, имело в себе тот внутренний смысл, что в этой «клевете» повинен я. Как иначе понять его, раз все эти «заметки» явились только следствием того совершенно протокольного и точного рассказа моего насчет Линдау, который я дал в Вашей газете 1 ноября, и который не мог не быть известен берлинским авторам опровержения?
Примите, господин редактор, уверение в моем совершенном почтении.
Ив. Бунин
«Пушкинские торжества» *
Страшные дни, страшная годовщина — одно из самых скорбных событий во всей истории России, той России, что дала Его. И сама она, — где она теперь, эта Россия?
А. И. Куприн *
Это было очень давно — когда я только что узнал о его существовании, впервые увидал в «Русском богатстве» его имя, которое все тогда произносили с ударением на первом слоге, и этим ударением, как я видел это впоследствии, почему-то так оскорбляли его, что он, как всегда в минуты гнева, по звериному щурил глаза, и без того небольшие, и вдруг запальчиво бормотал своей обычной офицерской скороговоркой, ударяя на последний слог:
— Я — Куприн, и всякого прошу это помнить. На ежа садиться без штанов не советую.
Сколько в нем было когда-то этого звериного — чего стоит одно обоняние, которым он отличался в совершенно необыкновенной степени! И сколько татарского! Насчет многого, что касалось его личной жизни, он был очень скрытен, никогда не говорил и никому не позволял сказать ни единого слова, так что, несмотря на всю нашу большую и такую долгую близость, я, например, до сих пор не имею ясного понятия, кто именно был его отец, — кажется, был он военным врачом, благодаря чему Александр Иванович и попал в кадетский корпус; знаю только, что он рано умер и что вдова его оказалась в такой бедности, что принуждена была жить в московском «Вдовьем доме». Про нее знаю, что, по происхождению, она была княжна с татарской фамилией, и всегда видел, что Александр Иванович очень гордился своей татарской кровью. Одну пору (во время своей наибольшей славы) он даже носил цветную тюбетейку, бывал в ней в гостях и в ресторанах, где садился так широко, важно, как пристало бы настоящему хану, и особенно узко щурил глаза. Это была пора, когда издатели газет, журналов и сборников на лихачах гонялись за ним по этим ресторанам, в которых он проводил дни и ночи со своими случайными и постоянными собутыльниками, и униженно умоляли его взять тысячу, две тысячи рублей авансом за одно только обещание не забыть их при случае своей милостью, а он, грузный, большелицый, только щурился, молчал и вдруг отрывисто кидал таким зловещим шепотом: «геть сию же минуту к чертовой матери!», что робкие люди сразу словно сквозь землю проваливались. Но даже и тогда, в эту самую плохую его пору, много было в нем и совсем другого, столь же характерного для него: наряду с большой гордостью много неожиданной скромности, наряду с дерзкой запальчивостью много доброты, отходчивости, застенчивости, часто принимавшей какую-то даже жалостную форму, много наивности, простодушия, хотя порой как бы наигранного, много мальчишеской веселости и того милого однообразия, с которым он все изъяснялся в своей постоянной любви к собакам, к рыбакам, к цирку, к Дурову, к Поддубно-му — и к Пушкину, к Толстому, — тут он, впрочем, неизменно говорил только о лошади Вронского, о «прелестной, божественной» Фру-Фру, — и еще к Киплингу. За последние годы критики не раз сравнивали и его самого с Киплингом. Сравнивали, разумеется, неудачно, — Киплинг возвышался в некоторых своих вещах до подлинной гениальности, Киплинг был настолько велик, как поэт, и настолько своеобразен, един в своем роде, что кого можно с ним сравнивать? Но что Куприн мог любить его, вполне естественно.


























