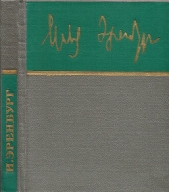Еврейский камень, или собачья жизнь Эренбурга

Еврейский камень, или собачья жизнь Эренбурга читать книгу онлайн
Собственная судьба автора и судьбы многих других людей в романе «Еврейский камень, или Собачья жизнь Эренбурга» развернуты на исторической фоне. Эта редко встречающаяся особенность делает роман личностным и по-настоящему исповедальным.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Все размышления и сомнения новоявленной гуманистки-фольксдойч шиты белыми нитками. Чуть выше последний вопрос, который Груня задает Дудорову, исполнен тревоги: «Ты его отправишь в штаб?» Через минуту она сама считает, что немца надо отправить в штаб. Такой психологический переворот ничем не обоснован. Подобные претензии можно предъявить к любой реплике.
Дудоров. Не мешай. Я думаю.
Груня Фридрих. Ну что же с ним делать?
Дудоров. Пока одно только хорошее. А если этого не хватит, то тогда высшая сила управится им и нами по-своему. Он останется у нас. На время его надо спрятать.
Помилуй Бог! Русский крестьянин, пусть и противник сталинского режима, добрый человек из разоренной наверняка деревни хочет спрятать немецкого офицера. Понятно, к чему призывает Пастернак. Жест Дудорова направлен на смягчение кровавой конфронтации, очеловечивание вспыхнувшей борьбы. Однако решение Дудорова совершенно не мотивировано.
Груня Фридрих. Спасибо. (Бросается ему на шею.)
Чего только во время войны не случается! И немца могла спрятать сердобольная девушка-фольксдойч, и подвиг она потом могла совершить, и немец мог оказаться приличным человеком. Но какова лексика, выражающая действия персонажей? Каков диалог!
Дудоров. Пойдем, покажи мне своего пленника.
Завершает фрагмент ремарка: «Уходят. Снег усиливается и валит густыми хлопьями. Через некоторое время за его сеткой движущимися силуэтами в глубине сцены проходят Груня Фридрих, Дудоров и Макс Гертерих в серой походной шинели и пилотке с наушниками».
Густые хлопья снега, конечно, не в состоянии скрыть провала, когда отсутствие реального опыта губит внешне привлекательный благими намерениями замысел.
Здесь, пожалуй, можно было бы и завершить историю с пьесой «Этот свет». Замечу только, что я вовсе не кровожаден, не мстителен, никогда не выступал против гуманизации войны и человечного отношения к пленным. В подтверждение могу привести свои повести «Пани Юлишка» и «Триумф», где образы немцев и немецких военнопленных вызвали пристальное внимание цензуры и подверглись суровой редактуре. Я уже упоминал о столкновении с Борисом Слуцким, обладавшим передо мной несомненным человеческим преимуществом — он воевал, а я нет.
При очередном издании дирекция и отдел прозы «Советского писателя» вынудили меня сочинить заявление, что я буду учитывать в дальнейшем редакторские пожелания. В противном случае со мной расторгнут договор.
— Вы слишком мягко относитесь к немцам, — твердил Лесючевский, личность в литературном мире достаточно известная: — Я их видел под Кенигсбергом. Здоровенные мордатые лбы! Звери, а не люди! Они не стоят подобного отношения, даже пленные. Мне не нравится ваша позиция.
Заведующая отделом Валентина Вилкова — не менее известная личность — угрожала:
— Вы, вероятно, собираетесь уехать в Израиль и решили выслужиться перед западными покровителями.
— У меня нет западных покровителей, — ответил я и вдруг сорвался:
— Если бы у меня имелись западные покровители, я бы не мучился с вами. Я никогда не искал покровительства на Западе.
Услышав мои злобные, но успокоившие ее слова, Вилкова снизила тон:
— Вы способный литератор. Только эго вынуждает меня дать вам совет: не упрямьтесь! Иначе вам придется забрать рукопись. Кое-кто из близких людей к Лесючевскому — не хочу называть фамилий, — прочитав подчеркнутое им, соглашаются, что вы слишком мягкими красками изображаете немцев, ищете в них человеческие достоинства. Не думайте, что ученики Лесючевского, с которыми он советуется, ваши враги. Они ваши соплеменники. Нет, нет, не спрашивайте фамилий!
Я не спрашивал — догадался сам: длинный такой, с желтоватым лицом. И с замысловатой еврейской фамилией.
Я дружил с Вячеславом Кондратьевым и всегда поддерживая его еще до публикации «Сашки». Я понимал кондратьевскую позицию и тоже относился к войне иначе, чем многие сверстники и «старшие товарищи». Я писал о личном — скромном — опыте и считал, что он, опыт, играет решающую роль при изображении событий, связанных с войной. Во время нашествия и сразу же после победы я встречал часто людей, выполнивших патриотический долг перед родиной и вместе с тем не испытывавших к Германии ненависти. К таким людям принадлежал Вячеслав Кондратьев.
Я верю, что и Эренбург не испытывая к немцам врожденной злобы и не призывал к их искоренению. Но это — назывные предложения. Художественная ткань требует иного, что Пастернак зная куда лучше меня. Несмотря на огромный литературный талант, волю и энергию, свободное владение профессиональной техникой письма, он был вынужден отложить перо. Более к рукописи пьесы Пастернак не возвращался. Ну разве можно развивать драматургический сюжет со всеми этими заемными действующими лицами — Дудоровыми, Фуфлыгиными, Мухоморовыми. Щукаревыми, Щукарихами — это после «Поднятой целины» Шолохова! — Однофамильцевыми, Хожаткиными, Гордонами, Энгелгардтами и прочими персонажами проектируемой пьесы?!
Не поленитесь и откройте четвертый том последнего собрания сочинений доброй памяти Бориса Леонидовича! Найдите монолог Друзякиной из «Этого света». Я почти уверен, что даже истовые поклонники Пастернака присоединятся к моему мнению, если еще не утратили способности к объективной реакции на любой прочитанный текст.
В свете сказанного упрек в жестокости, которая непонятна Пастернаку, и оттого брошенный Эренбургу, выглядит комком грязи, чему я не устаю поражаться.
Жене надоело напоминать, что папку «Бухучет» пора возвратить владельцу. Я расставался с ней неохотно потому, что никак не удавалось восстановить в целостности волнующую канву романа «По ком звонит колокол», и это угнетало и вынуждало постоянно возвращаться к нескрепляющимся листочкам. Хотелось до мельчайших деталей запомнить судьбы сражающихся в Испании и разобраться в том, о чем толковал подрывник и филолог Роберт Джордан с журналистом и одним из руководителей интербригад Карковым-Кольцовым. Фотографию подрывника в астурийской шляпе Эренбург поместил во втором томе альбома «Испания». Крестьянский парень притаился у стены, подстерегая удобную минуту, чтобы швырнуть снаряд. Напряженность и искренняя недекоративность позы вызывали трепет ожидания взрыва.
Я мечтал проникнуть в тайну отношений двух сталинских агентов — Кольцова и Андре Марти, который красовался молодым морячком в берете с помпоном рядом с черноволосой и уродливо груболицей Жанной Лябурб в учебнике истории. Их изображения учительница не велела заклеивать. Секретные сведения, недоступные прочим, ласкали мое честолюбие. Я смотрел на студентов в аудитории, слушавших скучное «Введение в литературоведение», и возвышался над простыми смертными. Я высокомерно парил в небесах. Пережитые недавно унижения теперь не доставляли таких, как раньше, мучений. Папка «Бухучет» возвращала чувство собственного достоинства. Я просто жил мозаичными ощущениями, купался в них, как плещется ничего не ведающий ребенок в тазу с теплой приятной водой.
Таинственное, но закономерное: Испания и Россия. Осенью 31-го года Эренбург «увидел впервые Испанию». Как он подчеркивает в мемуарах, страна на Пиренейском полуострове его давно притягивала. В музеях различных городов он долго простаивал перед холстами Веласкеса, Сурбарана, Эль Греко и Гойи. Много лет назад в период Первой мировой войны Эренбург научился читать по-испански. Он признается, что в двадцатилетием возрасте холсты Эль Греко воспринимаюсь им как откровение. Неистовство, изумляющее выражение человеческих страданий, взлета и бессилия привлекали юного парижанина, покинувшего Россию и рано познавшего скитальчество. Рядом с Эль Греко — психологически закономерно — возникает в воспоминаниях эскизный профиль Достоевского. Испания — горячая и трепетная — таинственно сближается со снежной и суровой Россией. Душный, пронизанный солнцем ветер внезапно сменяется волнами свежего, пропахшего листопадом воздуха.