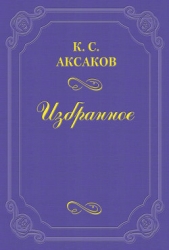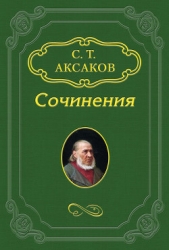Переписка Н. В. Гоголя. В двух томах

Переписка Н. В. Гоголя. В двух томах читать книгу онлайн
В первый том включена переписка Гоголя с друзьями его юности – А. С. Данилевским и Н. Я. Прокоповичем, С Пушкиным, Жуковским, Погодиным и др.
Второй том содержит переписку Гоголя с великим русским критиком В. Белинским, с писателем С Аксаковым, поэтом Языковым, художником А. Ивановым и др.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Снегирев мне полезен[ 794]. Он, несмотря на охоту завираться и беспрестанно глядеть по сторонам дороги, вместо того чтобы идти по ней прямо, говорит много нужного при всем том. Иногда выкопает такую песню, за которую всегда спасибо. Есть в русской поэзии особенные, оригинально-замечательные черты, которые теперь я заметил более и которых, мне кажется, другие не замечали, по крайней мере те, с которыми я говорил об этом предмете когда-либо. Эти черты очень тонки, простому глазу не заметны, даже если бы указать их. Но, будучи употреблены как источник, как золотые искры рудниковых глыб, обращенные в цветущую песнь языка и поэзии нынешней доступной, они поразят и зашевелят сильно. Но об этом можно поговорить. Сахаров[ 795], несмотря на свое доброе намерение, глуп. Он должен быть молодой человек. На вещи, на которые нужно глядеть простыми глазами, он как <будто> глядит в черт знает какие преогромные очки, а главное, теперь страшно важничает, приступая к какому-нибудь делу. Начал полным трактатом о славянской мифографии, а предмет этой мифографии «Абевега славянских суеверий»[ 796] да одна журнальная статейка на двух страницах. Наговорившись о них досыта, я думаю: «Ну, теперь, брат, подавай-ка нам собственные свои мысли», – а собственных-то он и позабыл, их-то и не сказал – вместо этого следует описание игры в горелки, где говорит, что она производится на зеленом лугу в приятном месте и что нет счастливее возраста юности и любви, и следуют о любви и о подобных предметах страницы. Меня остановила мысль или, лучше сказать, вздор этой мысли: что будто бы нам нужно отвергнуть всех богов, о которых не говорит Нестор, что они или составлены после, или были у других народ<ов>, к которым он причисляет и других славян. Но Нестор – монах и летописец текущих событий. Ему нет нужды перечислять всех богов. Притом, как христианин и монах, он не мог углубляться в предмет презрительный и неприличный для христианина в то время. Но об этом поговорим тоже. Ничего я до сих пор не сделал для Колара. Виделся наконец с Демидовым[ 797], но лучше, если бы не делал этого. Чудак страшный! Его останавливает что бы ты думал? Что скажет государь? Что мы переманиваем австрийского подданного. Из этого-де могут произойти неприятности между двумя правительствами. Я толковал ему, что мы не переманиваем, но что это вспоможение, которое оказать никому не может быть воспрещено, но заметил, что мои убеждения были похожи на резинный мячик, которым сколько ни бей в стену, он от нее только что отскакивает. Словом, это меня рассердило, и я не пошел к нему на обед, на который он меня приглашал на другой день. А Вельегурский хочет, и я с этим согласен: он хочет написать об этом к Уварову и вздрочить его честолюбие. Но я теперь об этом ему не напоминаю, потому что он ходит как убитый. Иосиф, кажется, умирает решительно[ 798]. Бедный, кроткий, благородный Иосиф. Может быть, его не будет уже на свете, когда ты будешь читать это письмо. Не житье на Руси людям прекрасным. Одни только свиньи там живущи. Писем к тебе на почте больше нет. Я справлялся постоянно. Кланяется тебе Грифи. Он сегодня мне объявил после многих «о, о, о, о», что занимается очень важными двумя сочинениями, которые печатает. Одно – сравнен<ия> русских с австрияками, в которых говорится, что австрияки смотрят только на одни запятые, а русские не смотрят. Другое сочинение о Рафаэле, о сибиллах, кажется, их толкование мифическое. Una cosa, говорит, affata non scritta mai[ 799]. Я думаю, что эти два сочинения будут совершенно одинаких достоинств. Здоровье мое так же неопределенно и глупо и странно, как и при тебе. Живу надеждою на Мариенбад, а с ним вместе и на приятность с тобою увидаться[ 800]. Прощай! Обнимаю вас обоих. Обними также за меня Шевырева. Прощай, мой ненаглядный. Я думаю, другого письма нечего писать к тебе. Оно тебя, верно, не найдет. А ты недурно, коли строки две пришлешь. До свиданья!
Гоголь – Погодину М. П., 4 ноября 1839
4 ноября 1839 г. Петербург [ 801]
1839. Ноября 4.
Я к тебе собирался писать, душа моя и жизнь, прежде, но отсрочивал, покамест не пойдут успешно мои дела, чтобы было о чем уведомить[ 802]. Но до сих пор все еще туго. По поводу моих сестер столько мне дел и потребностей денежных, как я никак не ожидал: на одну музыку и братые им уроки нужно заплатить более тысячи, да притом на обмундировку, то, другое, так что у меня голова кружится. Надеюсь на Жуковского, но до сих пор ника<кого> верного ответа не получил[ 803]. Правда, что время не очень благоприятное. Твое письмо или, лучше, два пакета я получил в один день. Нисколько не одобряю твоего намерения издавать прибавления к «Москов<ским> ведомостям» и даже удивляюсь, как тебе пришлось это. Уж коли выходить в свет, да притом тебе и в это время, то нужно выходить сурьезно, дельно, увесисто, сильно. Уж лучше, коли так, настоящий, сурьезный журнал. Но что такое могут быть эти прибавления? Как бы то ни было, мелкие статейки, всякий дрязг! Если ж попадет между ними и значительная статья, то она будет совершенно затеряна. Притом на них издержать и первый пыл приступа, и горячую охоту начала, и, наконец, статьи, которые, накопившись, дали бы полновесность и гущину будущему дельному журналу. И охота же тебе утверждать самому о себе несправедливо обращающееся в свете о тебе мнение, что не способен к долгому и истинно сурьезному труду, а горячо берешься за все вдруг, и т<ому> подоб<ное>. Ради бога, подумай хорошенько и рассмотри со всех сторон. Помни твердо, что тебе нужно таким образом теперь начать, чтобы было уже раз навсегда, чтобы это было неизменно и неотразимо[ 804]. В нынешнем твоем намерении, я знаю, ты соблазнился кажущеюся при первом взгляде выгодою, и, не правда ли, тебе кажется, что листки будут расходиться в большом количестве. Клянусь, ты здесь жестоко обманываешь<ся>. Если бы ты имел место в самых «Московских ведомостях», это другое дело. У тебя разойдется много. Но ведь ты издаешь за особенную цену, отдельную от ведомостей. Из получателей «Московских ведомостей» 15<-ти> т<ысяч> человек только, может быть, 50 таких, которые имеют литературные требования. Все же прочие ни за что не прибавят 10 рублей, будь уверен. Если ж ты надеешься на читателей, не подписыва<ющихся> на «Московские ведом<ости>», еще более обманешься. Уже самое имя: «Прибавл<ения> к «Московским ведомостям» никого не привлечет. Тут никакого нет электрического, даже просто эффектного потрясения. К тому ж это не политические, исполненные движения современного листки, которые одни могут только разойтиться, но никогда еще не было примеру, чтобы листки, посвященные собственно литературе, крохотная литературная газета имела у нас какой-нибудь успех. Конечно, есть вероятность успеха и подобного предприятия, но только когда? Тогда, когда издатель пожертвует всем и бросит все для нее, когда он превратится в неумолкающего гаэра, будет ловить все движения толпы, глядеть ей безостановочно в глаза, угадывать все ее желания и малейшие движения, веселить, смешить ее. Но для всего этого, к счастию, ты не способен. А без того что? Неужели ты думаешь, что статьи солидные, будучи помещены в газетные листки, займут кого-нибудь и надолго останут<ся>? Их жизнь будет жизнь газеты, толпе по прочтении пойдут на известное употребление, вся разница, что, может быть, даже еще прежде прочтения. Статья умная, сильная, глубокая в ежедневном листке! Неужели тебе не бросается это ярко в глаза? Это все равно, что Пушкин на вечере у Греча между Строевым и прочим литературным дрязгом. Но и это сравнение еще не сильно и не подходит к настоящей истине. Спрашивается, какая надобность литературе быть еженедельной и где нарастут новости в течение трех, четырех дней у нас, и еще в нынешнее время? А без современности зачем листок? Ты сам знаешь, что у нас книжное чтение больше в ходу, чем журнальное, и что журналы, для того чтобы расходиться, принуждены наконец принимать наружность книг (к сожалению, только в буквальном значении). Да и укажи мне где-либо в каком бы ни было государстве, чтобы была в ходу какая-нибудь чисто литературная газета. Все Revue[ 805] парижские издаются книжками. Что должно быть определенно для переплета, то для переплета, что для подтерок, то для подтерок. Не смешивай же двух этих вещей, никогда не соединяющихся вместе. Напереворот ничего не можешь сделать. Нет, ты просто не рассмотрел этого дела. Я никогда не думал от тебя услышать это. Ты меня просто озадачил. Нет, во что бы то ни стало, но я послан богом воспрепятствовать тебе в этом. Как ты меня охладил и расстроил этим известием, если б ты только знал. Я составлял и носил в голове идею верно обдуманного, непреложного журнала, заключителя в себе и сеятеля истин и добра. Я готовил даже и от себя написать некоторые статьи для него, пользуясь временем весны и будущего лета, которые будут у меня свободны, – я, который дал клятву никогда не участвовать ни в каком журнале и не давать никуда своих статей. А теперь и я опустился духом: ты начнешь эти прибавления, ты оборвешься и подорвешься на них и охладеешь потом для издания сурьезного предприятия. Ради бога, рассмотри внимательно и основательно и со всех сторон это дело. Что это у тебя за дух теперь бурлит, неугомонный дух, который так вот и тянет тебя на журнал, когда ты еще не обсмотрелся даже вокруг себя со времени своего приезда. Нет, это будет лежать на моей совести. Я буду просить тебя на коленях, буду валяться у ног твоих. Жизнь и душа моя, ты знаешь, что ты мне дорог, что ты моя жизнь точно. Не будет, клянусь, не будет никакого успеха в твоем деле. И я не вынесу, видя твои неудачи, и это уже заранее отравит мое пребывание в Москве и на меня в состоянии навести неподвижность. Отдайся мне. Обсудим, обсмотрим хорошо, употребим значительное время на приуготовление, потому что дело, точно, значительно, и, клянусь, тогда будет хорошо. Я много говорил, но, кажется, все еще мало. Я здесь пробуду еще полторы недели и к 20 ноября непременно в Москве вместе с Аксаковым.