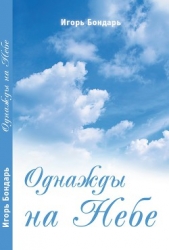В соблазнах кровавой эпохи

В соблазнах кровавой эпохи читать книгу онлайн
О поэте Науме Коржавине (род. в 1925 г.) написано очень много, и сам он написал немало, только мало печатали (распространяли стихи самиздатом), пока он жил в СССР, - одна книга стихов. Его стали активно публиковать, когда поэт уже жил в американском Бостоне. Он уехал из России, но не от нее. По его собственным словам, без России его бы не было. Даже в эмиграции его интересуют только российские события. Именно поэтому он мало вписывается в эмигрантский круг. Им любима Россия всякая: революционная, сталинская, хрущевская, перестроечная... В этой книге Наум Коржавин - подробно и увлекательно - рассказывает о своей жизни в России, с самого детства...
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
На перроне нас приветствовал председатель Александровского райисполкома Ростовской области, который приехал нас встречать во главе большого обоза колхозных телег. Фамилии его я не помню, помню, что она была украинской. Украинским же на мой слух был и язык, на котором говорили местные жители, которые, впрочем, как вообще на Кубани (административно эта местность относится к Ростовской области, но по складу, хоть она и не казачья, тяготеет к Кубани), все считали себя русскими. Были среди возниц и немцы - в районе был один или два немецких колхоза. По-видимому, состояли в них потомки тех самых немцев-колонистов, о которых в "Августе четырнадцатого" упоминает А. И. Солженицын. Ехали мы до места, до Александровки (официально - Александровки-Азовской), в крестьянских телегах шестьдесят километров степью, в сторону от моря - так что моря я тогда, к своему великому огорчению, не увидел.
Привезли нас в Александровку уже ночью. Один из возниц отвез нас к себе, где мы были радушно, с традиционным гостеприимством приняты и накормлены хозяйкой. Слушали нас с любопытством и сочувствием. Мы занимали воображение аборигенов тем, что уже как бы видели войну, хотя бы бомбежки. Для них же тогда (в начале июля 1941-го) война была еще экзотикой. Они были глубоким тылом и, как и мы, не представляли, что скоро перестанут им быть, а через год и вовсе окажутс в тылу противника.
Поначалу отношения с хозяевами были очень сердечными и хорошими. Нам была выделена небольшая горница с какими-то постелями, нас даже подкармливали. Но через несколько дней они внезапно испортились. Ругани не было. Просто однажды вечером в комнату, отведенную нам, постучался хозяин и, не говоря худого слова, вынес буквально из-под нас почти всю стоявшую в ней мебель.
Появление эвакуированных всегда наталкивается на некоторое отчуждение. Даже когда сталкиваются и не столь далекие группы населения, как прикубанские крестьяне и частью еще просто местечковые, украинские евреи. Баржи отправлялись из Киева, но киевлянами были отнюдь не все, кто на них взобрался, - для некоторых путь их бегства начался еще в Польше. Эти лучше всех знали, от чего бежали, но не отнюдь лучше, куда прибежали. Короче, без недоразумений было не обойтись.
Работали мы в одном из колхозов райцентра. В этих местах уже шли полным ходом уборка и обмолот хлебов, и нас к нему привлекли в качестве... колхозников. Работали все честно, но мало кто был сравним в силе и сноровке с настоящими колхозниками. Последние относились к этому спокойно. Насколько я помню, на работе и по поводу работы никаких конфликтов не возникало, нас не ругали и не подгоняли, отношения складывались вполне человеческие и гуманные. На полевом стане в обед кормили вкусно и досыта - замечательным ароматным мясным борщом и белым пшеничным хлебом.
Меня удивляло, что в райцентре, хоть деревня это была большая, было несколько колхозов. Ведь тогда я еще полагал коллективизацию благом. И не сомневался, что все вокруг думают так же. Дело было не только в моей общей философии. У моего отца такой философии не было, но однажды он мне всерьез, правда с некоторым удивлением, передал ответ одного пожилого колхозника на сакраментальный вопрос, стало ли ему легче или тяжелей при колхозах. Тот сказал, что безусловно легче. Раньше он, правда, зарабатывал больше, но зато и работал больше, и в голове приходилось многое держать. А теперь отработал сколько положено в поле - и гуляй. Отец был несколько обескуражен таким ответом, но иронии не почувствовал. Я, стыдно сознаться, тоже. Дело было не только в философии, а в отсутствии взаимопонимания - общего опыта, а отчасти и общего языка.
Короче, все мы плохо вписывались и никак не вкоренялись в эту жизнь. От нее нас отделяло и прошлое, и надежды на будущее, что не могло не сказываться на нашем поведении. Надо было получать и отправлять письма, искать по всей стране родных, посылать запросы насчет использования по специальности и ждать ответа на них. По этой причине приходилось шлятьс на почту, открытую только в рабочее время. Следовательно, необходимо было в рабочее время (прогуливая рабочие часы, а то и дни) появляться в центре села, где она была расположена. Здесь, в центре села, у всех на виду, происходили случайные, но радостные и громкие встречи. Люди это были разные, отнюдь не всегда близкие, но находящиеся в одинаковом положении - сюда, к почте, их приводили одинаковые потребности, и им было о чем поговорить друг с другом. Они никому ничего плохого не делали, но бросались всем в глаза, раздражали чуждостью.
Усилилось все это с мобилизацией. До нашего прибытия общей мобилизации в этих местах еще не было. Она началась недели через три - к концу уборки. Забрали сразу всех мужчин призывного возраста.
Эвакуированных, естественно, тоже. Но массовая психология иррациональна. "Наших туда забирают, а эти оттуда сюда на готовое приезжают" - для нее довод вполне убедительный. То, что берут и "этих", не так заметно.
Но на этом "всем готовом" жить никто особенно не стремился. Получать и дальше зарплату продуктами никого не тянуло - даже меня, несмотря на всю мою идейность. Отца расстраивало противоестественное отсутствие "живой копейки в руках". Это вовсе не подтверждает антисемитской легенды о "специфически еврейской" любви к деньгам - тут речь ведь шла не о скопидомстве, а об элементарной экономической независимости семьи. Как все теперь понимают, это значило разделить судьбу миллионов колхозников. Но тогда это не было так ясно, а тем более наглядно. У колхозников были дома, приусадебные участки, привычка к укладу деревенской жизни. А эвакуированные должны были начать с нуля. Естественно, они только о том и думали, как поскорей вернуться к своей профессии, выбраться отсюда в более понятный и привычный мир. Это стремление тоже не способствовало сближению с аборигенами.
Стремились уехать и мы. Моя мать снеслась с Ростовским облздравотделом и получила направление в станицу Боковскую, куда мы вскоре и выехали. Правда, не доехали. Но об этом - чуть позже. Перед тем как навсегда покинуть Александровку, мне все-таки хочется добавить несколько слов к тому, что я успел здесь рассказать о ней. Я почти никогда не вспоминал об этом большом и сравнительно богатом тогда селе, может быть, потому, что таким, каким я там был, я себя вспоминать не люблю. Считал, что помню только не виданные мной до той поры (и потом тоже) фрукты - жердели (или жардели). Они были похожи на маленькие абрикосы, на какую-то помесь абрикоса со сливой, и очень мне нравились... Тогда как раз был их сезон, ими пропахло все, ими начиняли очень вкусные пироги и вареники. И я считал, что больше ничего не помню.
Но оказалось, что я помню немного больше. Когда человеку неполных шестнадцать, у него не бывает пустых периодов. Тем более когда жизнь крутит перед ним такие кинофильмы. Там я впервые столкнулся с реальной жизнью, с тем, что она не сахар, что у нее есть лимиты. Оказалось, что для того, чтобы работать в редакции (я посетил и местную газету, где познакомился с ответсекретарем, ростовским парнем, писавшим вполне грамотные и современные стихи), мало быть таким, каким я себя считал, а надо еще, чтобы были свободные штатные единицы. Это вносило известные коррективы в мои представления о том, что молодым везде у нас дорога, стоит только захотеть. Этими словами я никого и ничего не хочу "разоблачить" - это нормальная жизненная проблема, порой драма, она всегда и везде есть и будет. Но нам-то гарантировали - "от каждого по способностям!".
Опыт мой обрастал подробностями - иногда смешными. Помню, как я был поражен, когда впервые узнал, что водку можно мерить на граммы. Произошло это в здешней столовой, где я обедал, - кстати, здесь кормили вполне добротно. Стройный и серьезный чуть седоватый человек, кажется мельничный мастер, заказывая буфетчице обед, присовокупил как нечто само собой разумеющееся:
- Ну и сто грамм.
И хотя он не уточнил, чего именно "сто грамм" ему надо было (я поначалу думал, что хлеба), но был понят. Буфетчица кивнула, взяла бутылку водки и наполнила ее содержимым граненый стаканчик, служивший меркой, и, перелив это в обыкновенный стакан, подала его заказчику. Так я впервые столкнулся с тем, что потом стало органической частью нашего быта и чуть ли не фольклора, а именно, с магическим выражением "сто грамм". В довоенном Киеве водку на граммы не мерили.