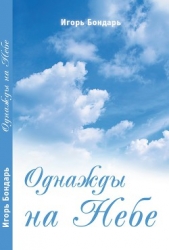В соблазнах кровавой эпохи

В соблазнах кровавой эпохи читать книгу онлайн
О поэте Науме Коржавине (род. в 1925 г.) написано очень много, и сам он написал немало, только мало печатали (распространяли стихи самиздатом), пока он жил в СССР, - одна книга стихов. Его стали активно публиковать, когда поэт уже жил в американском Бостоне. Он уехал из России, но не от нее. По его собственным словам, без России его бы не было. Даже в эмиграции его интересуют только российские события. Именно поэтому он мало вписывается в эмигрантский круг. Им любима Россия всякая: революционная, сталинская, хрущевская, перестроечная... В этой книге Наум Коржавин - подробно и увлекательно - рассказывает о своей жизни в России, с самого детства...
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Наконец мы приехали в Челябинск. Дальше наш билет был недействителен. Теперь мы были просто бездомными - бомжами, говоря по-нынешнему. И переселились из вагона в здание вокзала. Из вокзала не выходили.
Отойти нельзя было - твое место тут же занимали. Время от времени раздавался вопль обворованного человека. Это был вопль отчаянья: попробуйте остаться безо всего среди этого океана. Было страшно. В довершение всего каждую ночь под утро всех - всех, кому некуда было деваться, - выгоняли из вокзала на улицу на время уборки. Это было разумно, но не способствовало уверенности в себе. И тут среди всего этого бедлама на первый или второй день нашего пребывания мы услышали страшную весть о падении Киева. По официальной версии Киев пал 21 сентября - на самом деле 19-го, но мы этого знать не могли. В сообщении не было ничего неожиданного, но у свершившегося факта иная убедительность. Было страшно думать о родных - особенно в связи с дворником Кудрицким. И с тем, что по родным, знакомым с детства улицам свободно ходят враги, а я не могу, душа не мирилась.
Но надо было жить. Мы приехали ночью, а утром, сдав свои вещи в камеру хранения, уже вышли в город. Мама пошла разыскивать облздравотдел, а мы ее ждали в каком-то скверике. Вокруг бурлила какая-то странная жизнь, отнюдь не только челябинская. И это неудивительно: челябинцы и персонал эвакуированных заводов где-то уже худо-бедно жили и были теперь на работе, болтались же выбитые из колеи, в массе своей такие же временные бомжи, как мы. Все куда-то торопились, чего-то искали - прежде всего работы и пристанища.
Мать вернулась обнадеженная. Ей обещали место на Симском заводе - на Урале "заводами" назывались не только сами заводы, но и поселки при них. Симский завод упоминается уже в пушкинской "Истории пугачевского бунта" - через него проходил Пугачев. Теперь этот "населенный пункт" официально назывался поселок Сим Челябинской области. Вскоре он стал городом районного подчинения. Ничего этого я тогда не знал. Понял, что мать получила назначение в поликлинику при каком-то заводе, и был рад. Очень хотелось прибиться к месту.
Проголодавшись, отстояли очередь в закусочную. За соседним столиком расположились какой-то польский еврей с сыном. Держались отчужденно. Мой отец попытался завязать с ними разговор. Потом он удивленно рассказывал, что этот еврей на вопрос, куда они путь держат, просто ответил: "В Индию". Отец не знал, как эту нелепость понимать: то ли как резкий отказ от общения, то ли как беспочвенное прожектерство шолом-алейхемского "луфтмэнча" ("человека воздуха"). Я сразу же принял второе объяснение. А ведь он на самом деле пробирался в Индию. По-видимому, как польский гражданин, при помощи армии Андерса. А что ему еще было делать? Домой вернуться он не мог, в этой, по его мнению, дикой стране жить не собирался, вот и рассчитывал добраться до Индии - там все же англичане. Он проехал через великую страну, ничего, кроме неустройства, в ней не увидев, но у него не было и сознания человека, выросшего в закрытом обществе. Он мог и в Индию ехать.
Мамино оформление, видимо, занимало несколько дней, и нас временно поселили в эвакопункте - в одном из классов такой же школы-новостройки, как мои киевские. Школу, по-видимому, на время потеснили. Без "впечатлений" не обошлось и здесь. Сначала мы жили одни в целом классе, но потом к нам подселили эстонцев-железнодорожников с женами. Судя по всему, вывезли их всех насильно по инициативе какого-то идиота, чтобы не оставлять ценные кадры врагу. Конечно, это могли быть и эстонские коммунисты, но вряд ли - тех почти сразу арестовали. Русского языка все они не знали. Я пытался объясниться с ними по-немецки, на котором в детстве почти уже разговаривал, но давно забыл. Но они и им не шибко владели. В общем, были они здесь иностранцами. Но в то же время советскими гражданами. А в целом - как рыбы на берегу. Женщины плакали. Наверно, эти люди тогда предпочитали немцев нам больше, чем остальные эстонцы, у которых тоже были для этого основания.
Но наконец мамины дела были оформлены, билеты куплены, и мы отправились к месту маминой службы. Ехали на московском поезде назад к Уфе, до станции Симская, когда-то Рязано-Уральской, ныне Куйбышевской дороги. Приехали мы днем. От заводского склада при станции до поселка всего несколько километров, по узкоколейке ходила "кукушка" - крохотный паровозик с одним вагончиком и платформами.
Дорога занимала минут двадцать - тридцать. Все было по-домашнему, все всех знали и звали по имени - кондукторша пассажиров, а они ее и друг друга. По дороге выяснилось, что сюда теперь понаехали москвичи: переведен московский завод. Ехали среди лугов и огородов, поселок был плотно окружен горами, не очень высокими, но сплошь покрытыми хвойным лесом. Тротуары в поселке, во всяком случае у заводоуправления, где мы высадились, были деревянные. На таком тротуаре выставлены были все наши пожитки, рядом в ожидании стояли мы с отцом и ждали мать, ушедшую представляться начальству. Было ощущение, что наконец мы прибились к месту, пришел конец нашим мытарствам.
Поначалу мать вернулась встревоженная. Оказалось, что зубной врач в поликлинике уже есть - приехал с заводом. Но тревога быстро улеглась. Маму на работу взяли. Это решало все наши проблемы. Отцу с его дипломом устроиться на завод было уже нетрудно.
И мы стали жить здесь. Как - об этом в следующей главе. Про себя могу добавить, что тут я вскоре снова пошел в школу, в девятый класс. Самые длинные и самые трудные в моей жизни каникулы все же кончились.
СИМСКИЕ КОРРЕКТИВЫ-1. ПОСЕЛОК И ШКОЛА
Всю свою жизнь, за исключением эмиграции, я, теряя, приобретал, хоть, конечно, не сразу это понимал: терять всегда больно. В эмиграции я тоже кое-что приобрел: более конкретное знание и понимание Запада. Вероятно, и это несколько расширило мое общее представление о жизни, но не думаю, чтобы кардинально. Ведь на Запад я попал в сорок восемь лет, уже сложившимся человеком, а в поселок Сим - за две-три недели до своего шестнадцатилетия, когда я еще не знал ни себя, ни жизни.
Конечно, я о многом думал, и думал даже самостоятельно, позволял себе иногда (но не во время войны) не признавать Сталина. Но коммунизм, мировая революция, "законы классовой борьбы" - все это оставалось для меня святыней. Такие политические взгляды дурно сказываются на общем представлении о жизни, о ее смысле, о достоинстве человека - задевают то, что теперь называется естественной системой ценностей. Они зиждутся на идеологии, на вере в условную картину мира с собственной шкалой ценностей. Эта система умозрительна и держится за умозрительность, она противоречит живой жизни и человеческой природе, а значит, и художественному восприятию. Противоречит всему тому, чем был по природе я. Но я этого про себя еще не знал.
Шла очень тяжелая война. Шла не так, как должна была идти по планам, которые мне казались естественными. Я еще не знал, насколько не так, это даже участники войны, даже немалых рангов, узнают и поймут очень нескоро. А пока Киевом уже несколько дней владели немцы, и это меня угнетало. Нет, я не предвидел Бабьего Яра, но знал, что нашим близким там плохо. Да и вообще унизительно, когда твоя родина терпит поражения, а твой родной город в руках противника. Но я был человек идейный, и меня смущало, что в лице Гитлера "старый мир" брал реванш, бил нас в хвост и в гриву, утверждая, как мне казалось, отжившую частную собственность, мир мещанства. Насчет немецких пролетариев, изменивших своему классовому долгу, переживания мои уже кончились, но вот с возрождением частной собственности я никак примириться не мог.
По-настоящему с живой жизнью моя умозрительность столкнулась только здесь. Все, увиденное в Александровке и по дороге, пережитое во время тяжких "каникул 1941 года", улеглось по-настоящему тоже здесь. "Симские коррективы" оказались гораздо значительней и существенней еще и потому, что я здесь прочней обосновался и дольше жил - от "последних чисел сентября" 1941-го до середины марта 1944-го. Не говоря уже о том, что жизнь рабочего поселка, в котором вдобавок разместился московский завод, была тогда полем наблюдения, более доступным моему пониманию, чем жизнь деревни.