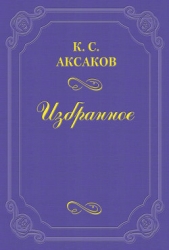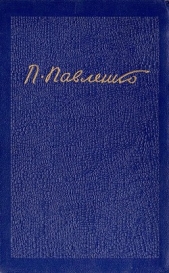Реализм Гоголя

Реализм Гоголя читать книгу онлайн
Книга «Реализм Гоголя» создавалась Г. А. Гуковским в 1946–1949 годах. Работа над нею не была завершена покойным автором. В частности, из задуманной большой главы или даже отдельного тома о «Мертвых душах» написан лишь вводный раздел.
Настоящая книга должна была, по замыслу Г. А. Гуковского, явиться частью его большого, рассчитанного на несколько томов, труда, посвященного развитию реалистического стиля в русской литературе XIX–XX веков. Она продолжает написанные им ранее работы о Пушкине («Пушкин и русские романтики», Саратов, 1946, и «Пушкин и проблемы реалистического стиля», М., Гослитиздат, 1957). За нею должна была последовать работа о Льве Толстом.
http://rulitera.narod.ru
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Нелепость, абсурд — закон бытия Невского проспекта; нелепость, абсурд — закон психики людей, осуществляющих это бытие и отравленных им; нелепости, абсурд проникают во все поры их жизни и мысли, — вплоть до абсурда построения фразы рассказчика: он в восторге от дамских рукавов, которые «вы встретите» на Невском проспекте: «Ах, какая прелесть! Они несколько похожи на два воздухоплавательных шара, так что дама вдруг бы поднялась на воздух, если бы не поддерживал ее мужчина; потому что даму так же легко и приятно поднять на воздух, как подносимый ко рту бокал, наполненный шампанским». При первом же, даже беглом чтении этого небольшого периода мы чувствуем в нем какую-то логическую странность; вглядываемся, — и в самом деле, он построен на абсурде, обратно логике: мужчина не дает даме подняться на воздух (удерживает ее на земле) — потому что даму легко и приятно поднять на воздух… И эта алогичность — проявление того же закона нарушения всяческого закона справедливости и разума, который выражается здесь во всем, вплоть до приравнивания женщины к бокалу шампанского, подносимого ко рту.
Значит, рассказчик «Невского проспекта» слит с миром пошлости, являющим безобразное лицо петербургской жизни. Но в то же время он слит и с благородным безумием романтика, тоже являющимся следствием этой жизни. Поэтому рассказчик, повествуя о Пискареве, то и дело (хоть и не сплошь все время) объединяет свое «я» с его переживаниями. Он раскрывает читателю внутренний мир Пискарева, видит окружающее с его точки зрения (например: «Красавица оглянулась, и ему показалось, как будто легкая улыбка сверкнула на губах ее»). Наконец, его речь становится в ряде мест внутренним монологом Пискарева, легко переходя от носителя-рассказчика к носителю-герою; например: «… молния радости нестерпимым острием вонзилась в его сердце. Нет, это уже не мечта! боже, столько счастия в один миг!..» Здесь первая фраза — формально от автора; но она не только раскрывает тайные движения души героя: самая ее стилистика, ее образная, напряженность, романтическая страстность делают ее речью или мыслью Пискарева столь же, сколько речью рассказчика; а далее — уже явные возгласы самого Пискарева, хотя и они остаются в то же время и рассказом автора о переживаниях Пискарева. Далее то же: «Но не во сне ли это все? ужели та, за один небесный взгляд которой он готов бы был отдать всю жизнь… ужели та была сейчас так благосклонна и внимательна к нему? Он взлетел на лестницу…» От внутреннего монолога героя, в то же время не перестающего быть речью автора, здесь — обратный переход к авторскому рассказу о герое.
Далее мы все время встречаемся с тем же принципом изложения. Иной раз целый большой кусок речи автора весь окрашивается в тон внутреннего монолога Пискарева. Таково, например, размышление о возлюбленной Пискарева; это — печальные мысли автора о гибели прекрасного в дурном мире; и это же — страстный монолог Пискарева с его усилительной романтической стилистикой, его любовь, его мечты о счастье, его отчаяние перед невозможностью счастья: «Она бы составила неоцененный перл, весь мир, весь рай, все богатство страстного супруга; она была бы прекрасной тихой звездой в незаметном семейном кругу и одним движением прекрасных уст своих давала бы сладкие приказания… — но, увы! она была какою-то ужасною волею адского духа, жаждущего разрушить гармонию жизни, брошена с хохотом в его пучину». И ниже — не раз возгласы вроде: «… встретилась с глазами Пискарева. О, какое небо! какой рай! дай силы, создатель, перенести это!..» Или: «Так это он спал! Боже, какой сон! И зачем было просыпаться?» и т. д.
В конце рассказа о Пискареве это слияние речи автора и внутренней речи героя достигает предела, дойдя до прямой формулы личного обращения героя к героине — в речи автора: «Я была совсем пьяна», прибавила она с улыбкою. О, лучше бы ты была нема и лишена вовсе языка, чем произносить такие речи! Она вдруг показала ему как в панораме всю жизнь ее». Ты — от Пискарева и сочувствующего ему автора, — и опять она.
Итак, автор-рассказчик повести предстает перед нами в двух лицах, отражающих две человеческие судьбы, о которых говорится в повести; при всем том — это один и тот же автор, и он показывает нам себя на всем протяжении повести еще и в третьем лице, объединяющем первые два и стоящем над ними. В самом деле, на всем протяжении повести мы все время слышим голос не только пошляка, не только романтика, но и мудрого автора, болеющего душою и за пошлость одних и за трагическую гибель других в мире, горестно и с усмешкой наблюдаемом им. Этот третий облик автора присутствует, в сущности, все время в изложении. Он ощутим в пассажах насчет бакенбард, рукавов и т. д., в том, что эти пассажи нелепы и смешны; стало быть, он смеется и сам над ними, а значит, он смеется над собой в облике пошлости; потому что ведь во всех обликах — это один и тот же рассказчик, «я» повествования. Он ощутим в романтических монологах о Пискареве в том, что страстное безумие этих монологов наивно и нереально; и, стало быть, он видит иллюзии Пискарева и скорбит о его драме, то есть скорбит об иллюзиях и о трагедии самого себя в облике мечтателя, в образе поэзии, осужденной на гибель в продажном мире.
Но этот третий облик автора все время всплывает и прямо, от себя, в больших и малых частях текста. Так, например, это только он, и никак не кто-либо из первых двух лиц рассказчика дает сочувственную, но спокойную, не мечтательную характеристику жизни и поведения петербургских художников («Этот молодой человек принадлежал к тому классу, который составляет у нас довольно странное явление…» и т. д.). Речь рассказчика в этом его аспекте лишена и гротескной характерности речи комического персонажа и пылкой патетики романтического монолога; это — ровная, «интеллигентная», литературная речь, — и мнения, ею выражаемые, мудро комментируют происходящее. От этого-то облика рассказчика идут замечания вроде суждения о Пискареве, что «он был чрезвычайно смешон и прост как дитя» или что «вседневное и действительное странно поражало его слух». Рассказчик в этом своем облике, рассказывая о событиях, ведет линию простого изложения; например: «Приемы опиума еще более раскалили его мысли, и если был когда-нибудь влюбленный до последнего градуса безумия… то этот несчастный был он». Или: «Никто не мог знать, ночевал он где-нибудь или нет; на другой только день каким-то глупым инстинктом зашел он на свою квартиру, бледный, с ужасным видом, с растрепанными волосами, с признаками безумия на лице…» и т. д. При этом такого рода повествование тоже не лишено личного тона; оно тоже идет не в плане нейтрального, «ничьего» рассказа, а как живая речь человека, и смеющегося и болеющего душой: «Так погиб, жертва безумной страсти, бедный Пискарев, тихий, робкий, скромный, детски простодушный, носивший в себе искру таланта, быть может со временем бы вспыхнувшего широко и ярко…» и т. д.
Этот же облик автора все время проявляется и в рассказе о Пирогове. В конце этого рассказа он выдвигается вперед, заявляет о себе прямо как о личности рассказчика: «Я должен с прискорбием признаться, что поручик Пирогов был очень больно высечен. Я уверен, что Шиллер на другой день был в сильной лихорадке…» и т. д. Так мы подходим к концовке всей повести. Эта концовка — монолог, обращенный к читателю, патетическая речь, именно произнесенная речь, вся насыщенная формулами устной речи — восклицаниями, вопрошениями, обращениями к читателю: «О, не верьте этому Невскому проспекту!»; «Вы думаете, что этот господин… очень богат?.. Вы воображаете, что…»; «Менее заглядывайте в окна магазинов…»; «боже вас сохрани заглядывать дамам под шляпки…» и т. д. И эта речь к читателю — речь именно от лица третьего аспекта рассказчика, от того настоящего автора, который стоит над двумя своими же обличьями в повествовании. Сначала эта речь прямо дана в кавычках, как внутренний монолог реального человека-автора: «Дивно устроен свет наш!» — думал я, идя третьего дня по Невскому проспекту и приводя на память эти два происшествия: «Как странно, как непостижимо играет нами судьба наша!» и т. д. В этой части, во внутреннем монологе, формул обращения к читателю нет. Затем кавычки закрываются: внутренний монолог сменяется речью к читателю («Но страннее всего происшествия…» и т. д.), и эти формулы появляются в изобилии.